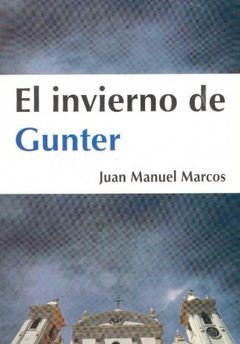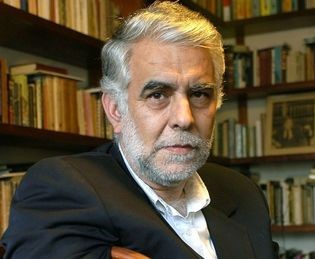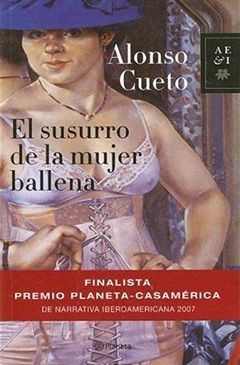- Код статьи
- S0044748X0005582-9-1
- DOI
- 10.31857/S0044748X0005582-9
- Тип публикации
- Статья
- Статус публикации
- Опубликовано
- Авторы
- Том/ Выпуск
- Том / Выпуск № 8
- Страницы
- 84-98
- Аннотация
В статье рассматриваются два наиболее значительных на сегодняшний день произведения ярких представителей современной литературы Латинской Америки — романы «Зима Гюнтера» Хуана Мануэля Маркоса (Парагвай) и «Шепот женщины-кита» Алонсо Куэто (Перу). Масштаб дарования обоих авторов позволяет им стать выразителями широких общественных умонастроений. Тема глобализации занимает в этих романах значительное место, соотносится с традиционной для латиноамериканского сознания обостренной сосредоточенностью на проблеме этнокультурного самопознания и самоутверждения. Каждый из этих писателей представляет особую, Маркос — раннюю, Куэто — зрелую стадию процесса глобализации в Латинской Америке, что делает возможным выявить динамику отношения латиноамериканцев к данному явлению. Автор статьи подтверждает мысль зарубежных и отечественных исследователей о связи Маркоса с наследием «нового латиноамериканского романа», что, прежде всего, проявляется в стремлении представить Латинскую Америку как часть многоликого человечества. Отмечается факт принадлежности романа Маркоса к феномену постмодернизма с его тенденцией к релятивизации традиционных представлений, что для Маркоса оказывается продуктивным в эстетическом плане (полистилизм) и неприемлемым в вопросах этики. Этическая доминанта характерна и для романа Куэто, постмодернистского в том смысле, что он сочетает традицию литературной классики в изображении внутреннего мира женщины (Л.Н.Толстой, Г. Флобер и др.) с современным «женским романом». Оба писателя отвергают алармистские настроения в отношении проблемы «глобализация и этнокультурная идентичность», оба они в целом относятся к глобализации благосклонно, но при этом в романе Куэто этнокультурная озабоченность выражена слабее, чем в книге старшего по возрасту Маркоса. Судьба глобализации для этих писателей зависит от того, каким будет человек как существо этическое.
- Ключевые слова
- Маркос, Куэто, постмодернизм, идентичность, этика
- Дата публикации
- 24.07.2019
- Год выхода
- 2019
- Всего подписок
- 92
- Всего просмотров
- 2451
В 1987 г. вышел в свет роман парагвайского писателя Хуана Мануэля Маркоса (р. 1950 г.) «Зима Гюнтера». Он удостоился широкого читательского признания и был высоко оценен критикой, которая причислила его к наиболее ярким образцам так называемого «постбума» в латиноамериканской литературе. «Бум» (или, согласно принятой в отечественном литературоведении терминологии, «новый латиноамериканский роман») обозначает мощный подъем латиноамериканской прозы в 1960—1970-е годы, привлекающий к себе внимание далеко за пределами Латинской Америки. Общее между Маркосом и представителями «бума» — это, прежде всего, пафос свободы в ее самом широком понимании: от политики до сферы интимной жизни, который проявился в умонастроениях и поведении многих людей на Западе, особенно молодежи 1960—1970-х годов; подъем леворадикального движения, студенческие бунты, «сексуальная революция», феномен «контркультуры» — все эти признаки указанного времени так или иначе, с большей или меньшей степенью определенности, присутствуют в романе Маркоса.
Подобно своим предшественникам (и не только непосредственным, т.е. представителям «бума», но и более далеким, вплоть до истоков литературного процесса в Латинской Америке — речь идет о некоем его стабильно-типичном качестве) Маркос предельно сосредоточен на латиноамериканской проблематике, стремится утвердить неповторимую сущность Латинской Америки в контексте единого и многоликого человечества. А с другой стороны, универсализм писателей «бума» проявляется в активном использовании ими опыта западной модернистской прозы XX в. (Марсель Пруст, Джеймс Джойс, Франс Кафка, Джон Дос Пассос, Уильям Фолкнер и др.). По этому пути, и даже расширяя диапазон применяемых им средств из арсенала мировой литературы, следует и Маркос.
В романе «Зима Гюнтера» сочетаются самые различные эстетические начала: «поток сознания», объективная описательность реалистического типа, лаконичный репортерский слог и словесная избыточность, возвышенный профетический тон и жесткий, «грязный», натурализм, политический памфлет с элементами гротеска и проникновенная лирики в традиции верлибра, психологизм и публицистичность. Перед нами яркий пример эстетического плюрализма, столь характерного для постмодернистской культуры, где вопрос об оценочно-избирательном отношении к различным эстетическим явлениям принципиально элиминируется.
Выражая постмодернистскую установку на отказ от ригоризма в эстетике, Маркос тем самым стремится утвердить характерный для постмодернизма принцип вольного, ироническо-адогматического, игрового отношения к различным эстетическим системам при том, однако, что «Зима Гюнтера» — роман не игровой, не фривольный, не развлекательный (развлекательность, как известно, вовсе не чужда серьезному постмодернизму и даже приветствуется в нем, но это — не тот случай). Здесь речь идет о произведении предельно серьезном, выдержанном в духе «оптимистической трагедии», взывающем к самым человечным началам природы человека — к чувствам любви, милосердия, справедливости.
Постмодернизм многое значит в идейном содержании романа. Один из его персонажей, антрополог и философ Тито (Альберто) Асуага говорит: «Я — постструктуралист. Ни во что не верю. Зачем мне забивать им (своим ученикам. — Б.С.) голову? … что меня раздражает в свя-щенниках и коммунистах, это то, что и те, и другие верят в идею универсальной морали. Нет ни плохих, ни хороших. Есть только симпатичные и неприятные или, если хочешь, люди, как мы, и сукины дети. Но меня это особо не волнует и не мешает мне спать» (здесь и далее перевод Дины Однопозовой). Постструктурализм, адептом которого провозглашает себя Асуага, — течение в западной гуманитарной мысли, утвердившееся в 1970-е годы и, как на это указывает его название, связанное с чрезвычайно влиятельным в предшествующий период (1960-е годы) структурализмом, в котором он исподволь формировался и основные принципы которого подверг существенной ревизии с тем, чтобы в дальнейшем (1980-е годы и далее) трансформироваться в постмодернизм, так что оказывается возможным говорить о едином постструктуралистско-пост-модернистском комплексе. Асуага не называет себя постмодернистом, поскольку в его время (действие романа происходит во второй половине 1970-х годов) этот термин еще недостаточно укоренился в западном научно-общественном сознании, и его использование в данном случае выглядело бы явным анахронизмом, но взгляды на мораль, которые высказывает герой, встречаются и в постмодернизме или, точнее, их можно экстрагировать из некоторых его явлений, при неизбежном, конечно, обеднении и упрощении общей картины.
Хуан Мануэль Маркос
Автор ведет полемику со своим героем, но это не спор двух философов (Асуага, напомним, антрополог и философ, а Маркос — доктор филологии и философии, читающий лекции в университетах обеих Америк, Европы и Японии). Дело здесь не в том, насколько корректно Асуага представляет взгляды на мораль определенного философского течения — будь то постструктурализм или постмодернизм. Это — полемика по сути вопроса, поставленного Асуагой, о морали как таковой и о ее значении в жизни общества и человека.
Презентующий себя как моральный релятивист, Асуага, в действительности, — добрый отзывчивый человек, ведущий себя по отношению к другим людям, придерживаясь норм той самой морали, которую он на словах не признает (исключением в данном случаем можно считать его любовную связь с чужой женой, но именно поэтому, в силу своей моральной щепетильности, он и причисляет себя к тем, кого называет «сукины дети»). Однако переживания по поводу морального несовершенства мира становятся причиной его тяжелой болезни и преждевременной смерти.
В образе Асуаги явно присутствует авторская ирония: «слово» героя (убеждения) отчетливо расходятся с его «делом» (реальное жизненное поведение); оказывается, человеку с нормальным, неискаженным и неатрофированном моральным чувством гораздо сложнее отказаться от морали, вести себя аморально, чем резонерствовать на сей счет. А с другой стороны, идеи, высказанные Асуагой, при своем распространении в обществе, способны обосновать и укрепить всегда существующий в нем «стихийный» аморализм. Маркос как писатель и философ отчетливо осознает силу слова и мысли, в том числе — и подчас заключенные в них деструктивные возможности. Поэтому взглядам Асуаги он противопоставляет идею универсальности и непреложного значения морали, что находит выражение в целом ряде перипетий романа, включая и те, которые связаны с темой глобализации и этнокультурной идентичности.
Обложка романа «Зима Гюнтера»
Эту позицию, прежде всего, выражает образ главного героя книги Франсиско Хавьера Гюнтера, парагвайца немецкого происхождения, директора организации под названием Всемирный Банк. История его перерождения из бездушного функционера и карьериста в морально ответственную личность образует центральную линию повествования романа, которая, как и все его события, происходит в контексте или на фоне определенных социально-политических обстоятельств, топографически относящихся к аргентинской провинции Коррьентес, расположенной на границе с Парагваем, с которым у нее много общего в этнокультурном плане, и хронологически принадлежащих началу 1980-х годов — периоду господства (1976—1983 гг.) военно-террористической хунты в Аргентине.
Сама фигура Гюнтера, его социально-профессиональный статус, связана с темой глобализации, причем герой действует на ее финансово-экономическом направлении, которое, по мнению некоторых экспертов, наиболее вредоносно для человечества. Гюнтер давно покинул родину, большую часть времени он проводит в Нью-Йорке и других мировых финансовых центрах, по-английски он говорит чаще, чем по-испански. То есть перед нами человек, ведущий типично космополитический, глобалистский образ жизни.
В этом отношении ему под стать и другие персонажи романа: тот же Асуага, читающий лекции в различных учебных заведениях мира, его любовница (жена Гюнтера), афроамериканка, филолог-испанист Эльза Линч, арена профессиональной деятельности которой отнюдь не ограничивается Америкой. Все эти люди много и беспрепятственно путешествуют по миру, подолгу живут в других странах, не там, где они сформировались как представители определенных этнокультурных типов, и везде они чувствуют себя вполне комфортно, не поступаясь при этом своей оригинальной этнокультурной идентичностью, даже если, как это свойственно до поры до времени Гюнтеру, она выражена весьма слабо.
Повествование романа густо насыщено приметами глобализации: это и Всемирный Банк Гюнтера, и упомянутый в самом начале книги Храм Науки (Cathedral of Learning), расположенный в Питсбурге (США), занимающийся проблемами человечества в мировом, глобальном масштабе, это и многочисленные места на планете, где доводится жить и работать героям. И у каждого из этих мест свой облик, характер его жителей, своя культура, и все они образуют единство, основанное на множестве привнесенных глобализацией реалиях образа жизни. Специфическое, однако, сохраняется в контексте глобализации.
Автор явно придерживается той точки зрения, что национальная специфика не так-то легко поддается универсализации под влиянием глобалистских процессов. На это особенно отчетливо указывает сцена, в которой Элиза Линч рассматривает флаги Парагвая и Франции — они одинаковы. В свое время в первой трети XIX в. многие латиноамериканские страны, добившись независимости от монархической Испании, переняли у республиканской Франции цвета ее флага — тоже ведь глобализация, но при этом, думает Эльза, как различны исторические судьбы и нынешнее состояние этих двух стран.
Для автора глобализация — естественная, необратимая и в целом благотворная форма существования человечества, главная ценность которой заключается в том, что, по словам перуанского писателя, Нобелевского лауреата Марио Варгаса Льосы, «… она … существенно расширяет горизонты индивидуальной свободы» [1]. Но в романе речь идет и о свободе коллективной, политической, т.е. о демократии, отсутствие которой находится в противоречии с духом глобализации, и, по мысли автора, борьба за ее достижение — долг каждого этически ответственного, совестливого человека. «Свобода» и «совесть» — важнейшие концепты для определения смысла романа Маркоса.
Однажды Гюнтер получает известие, что в Коррьентесе арестована его племянница Соледад Монтойя Сенабрия. Официально ей вменяется в вину участие в антиправительственной демонстрации, но главная причина ее ареста в том, что она, молодая поэтесса, пишет вольнолюбивые стихи, вызывающие раздражения властей, которые пытаются свести с ней счеты. В тюрьме девушку подвергают жестоким пыткам, ее жизни угрожает опасность. Родственники обращаются к Гюнтеру за помощью. Поначалу он не реагирует на их просьбы, не желая обременять себя излишними хлопотами, да и свою племянницу он никогда до этого в глаза не видел. Но постепенно он меняет свое отношение к случившемуся. Происходит это, прежде всего, под влиянием их общего с Элизой друга, бразильского художника Ливо Абрамо, наделенного обостренным чувством справедливости, носителем традиции деятельного сострадания к чужому горю.
Гюнтер принимает решение отправиться в Аргентину, чтобы помочь Соледад, используя свое служебное положение. Но все его усилия тщетны: чиновники, к которым он обращается, не хотят вмешиваться в это дело из страха перед военно-террористическим режимом, которому они служат, адвокаты бессильны в условиях царящего в стране беззакония, возведенного в ранг закона.
Важным моментом духовной эволюции героя становится его встреча с известным буэносайресским адвокатом, человеком сугубо критически настроенным по отношению к власти, мучительно переживающим то, что происходит на его родине. Постепенно разговор между ними принимает особенно доверительный характер. Собеседник Гюнтера говорит: «Эта страна …трагична, убога, беспорядочна, коррумпирована, забыта Богом, провинциальна, недоразвита, жестока, бедна, труслива, изолирована, одинока, измучена, наказана, подвержена гонениям, сбита с пути, разочарована, бессильна, неблагозвучна, ненавистна, невыносима». И Гюнтер, выслушав этот страстный монолог, отвечает: «Ну, тогда скажите мне … за что же Вы ее так любите? А? За что? Черт побери, за что же Вы ее так любите?». В этом монологе Гюнтер открывает в себе самом чувство любви к родине. Адвокат из Буэнос-Айреса, подобно тому, что в сказке Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева» сделала Герда с мальчиком Каем, растапливает льдинку в сердце героя, пробуждает в нем способность любить, в данном случае — родную страну. «Любовь» — еще одно ключевое слово в романе Маркоса.
Гюнтеру не удается спасти Соледад. Но вся эта история привела к тому, что он решает вернуться на родину, чтобы служить своей стране и Латинской Америке, боль и ответственность за судьбы которых он теперь ощущает. Герой, таким образом, приходит к высшей форме этнокультурной идентичности — ее практическому воплощению.
При том, что глобализация явственно присутствует в романе Маркоса как тема, она не противопоставляется этнокультурному фактору, автор относится к ней положительно. Но главный объект его внимания — человек как существо этическое, стоящее перед выбором между добром и злом, — в себе самом и вокруг себя. Маркос — писатель с глубоко укорененной этической озабоченностью.
Роман Маркоса увидел свет в 1987 г. в самом начале глобализации, компьютер — этот ее важнейший инструмент и подлинный символ — только-только входит в жизнь героев романа. Один из них коррьентиец дядюшка Атилио, живущий в Нью-Йорке, говорит своей племяннице Соледад, приехавшей в США изучать социологию (разумеется, дело происходит до ареста героини): «Почему бы тебе не изучать компьютеры — это наука будущего». То, что для дядюшки Атилио и его современников — будущее, стало настоящим в романе перуанского писателя Алонсо Куэто (р. 1954 г.) «Шепот женщины-кита», опубликованном в 2007 г., когда глобализация окончательно и бесповоротно утвердилась как явление мирового масштаба.
У Куэто компьютеры упоминаются множество раз: «Я села за компьютер», «Не отдышавшись, села за свой компьютер», «Другие сотрудники с головой утонули в своих компьютерах», «Села за компьютер и принялась за работу», «Когда пришла домой, Джованни играл, сидя за компьютером» и т.п. (здесь и далее перевод Алексея Гришина). Компьютер в романе Куэто — и рабочий инструмент, и средство общения, и времяпрепровождение, и верный друг, которому доверяют самые сокровенные мысли. С его помощью главная героиня и повествовательница романа Вероника пишет книгу о своей жизни, ту самую, которая предлагается вни-манию читателя, написанную в действительности писателем Куэто.
Перед нами — образец так называемого женского романа с повествованием от лица женщины, сосредоточенностью на особенностях женского мировосприятия, образа жизни, положения в обществе. Но это — внешние признаки, в сущности же, по качеству письма, идеям, разработанности сюжета и образов действующих лиц роман Куэто неизмеримо выше среднего уровня «женского романа», принадлежавшего в целом «массовой литературе». Куэто предстает в данном случае как успешный реализатор постмодернистской установки на преодоление различий между «высоким» и «низким» в культуре с тем, чтобы (возможен и другой, обратный вариант, но здесь речь не об этом) использовать опыт второго для поддержания жизнеспособности первого.
Алонсо Куэто
Создавая «женский роман», будучи мужчиной, между тем как большинство авторов этого типа произведений — женщины, Куэто стремится опровергнуть довольно распространенное женское мнение, выражаемое словами: «Ничего-то вы, мужчины, в женщинах не понимаете», и не исключено, что при этом писатель вдохновлялся примерами из литературной класси- ки — «Мадам Бовари» Гюстава Флобера, «Анной Карениной» Льва Николаевича Толстого и др., которые, конечно, к «женскому роману» не относятся, но представляют собой убедительнейшее доказательство способности мужчины понять женскую душу и долю. Причем, проблема понимания на гендерном уровне (между автором — мужчиной и героиней — женщиной) постоянно сопрягается в романе Куэто с проблемой взаимопонимания между людьми вообще и понимания человеком самого себя.
Вероника — журналистка, работающая в одной из ведущих перуанских газет, успешно продвигающаяся по службе, у нее есть семья, собственный дом, автомобиль, ей не занимать женского обаяния, она вполне довольна собой и своей жизнью. Но однажды, возвращаясь из служебной командировки, она встречается в самолете со своей бывшей школьной подругой Ребекой, с которой не виделась 25 лет. Эта встреча и последующее общение между двумя женщинами становятся причиной духовного кризиса героини, побуждают ее взяться за написание книги, которая представляет собой исповедь повествовательницы, попытку обретения ею своего «я» с позиции обостренно критического самоанализа.
Материалом для него служат воспоминания и свежие впечатления героини, а движущую силу развития сюжета книги создают коллизии, возникающие в результате совмещения двух противоположных женских судеб — Вероники и Ребеки. Последняя, в отличие от своей бывшей подру- ги, — существо несчастное, она неимоверно толста, некрасива, несуразна в своем поведении, у нее не сложилась личная жизнь. В школе ее часто подвергали насмешкам, и единственным человеком, кто приходил ее тогда на помощь, была Вероника. Но, сохраняя благодарную память об этом, Ребека помнит и другое: во время выпускного вечера, когда одноклассники потешались над ней особенно жестоко, Вероника была вместе со всеми.
Слово «предательница», которое, имея в виду тот случай, спустя годы, бросает ей в лицо Ребека, поначалу вызывает протест и обиду Вероники, но вскоре она вынуждена признать свою вину: на том вечере она вела себя недостойно, в какой-то момент поддалась влиянию окружающих и вообще, в ее былом добром отношении к Ребеке преобладали не жалость или чувство справедливости, это была позиция снисходительного покровительства баловня судьбы над неудачником — в атмосфере всеобщего веселья, подогретого алкоголем, контроль сознания над поведением оказался ослабленным, и правда вышла наружу.
Обложка книги «Шепот женщины-кита»
Подвергая критическому переосмыслению свою жизнь, Вероника делает все новые и новые неприятные для себя открытия. И выясняется, что злополучный случай, о котором напомнила ей Ребека, был предопределен самим типом ее общения с людьми. Она всегда вела себя с ними благопристойно и корректно, соблюдая приличия, но сохраняя дистанцию между собой и другими с тем, чтобы избегать лишних хлопот и тяжелых впечатлений; ей явно не доставало сердечной теплоты и спонтанной отзывчивости, готовности разделить боль, страдания и проблемы тех, с кем она общалась, ее тяготила необходимость тратить душевные силы на выстраивание полноценных межличностных отношений.
Вероника давно уже внутренне одинока — подобно Ребеке, но по другой причине. Ребека обречена на одиночество из-за своего отталкивающего внешнего вида, Веронике на свою внешность грех жаловаться, она — жертва эгоцентризма, который ведет человека к отчужденности от окружающих, к одиночеству. Обе героини стремятся изменить ситуацию, в которой они находятся. Ребека противопоставляет ей волю к жизни, активность, предприимчивость. Получив приличное наследство, она оканчивает университет в США по курсу менеджмента, основывает промышленное предприятие, которое процветает. Она богата со всеми вытекающими отсюда возможностями для удовлетворения материальных потребностей, но это не приносит ей счастья — одиночество не отступает.
В известном смысле Вероника находится в более сложном положении, чем ее бывшая подруга, которая одинока не по своей вине — отвратительная внешность — качество от нее не зависящее, между тем как причина одиночества Вероники — в ней самой, в ее субъективных жизненных установках и личном поведении. Правда, и здесь можно говорить о некоем факторе, влияющем на героиню. Ее отец был человеком замкнутым, целиком погруженным в самого себя, дававшим своим детям не более того, что соответствует формальному пониманию отцовского долга, и он всю жизнь провел в состоянии внутреннего одиночества. Зато мать героини была женщиной добросердечной, отзывчивой, общительной, полностью посвятившей себя служению семье. Вероника — дочь своих родителей, она унаследовала качества обоих. Она преданная, заботливая мать, легко устанавливает контакты с людьми (без этого свойства — коммуникабельности — ее журналистская профессия вообще невозможна), все это у нее от матери. Однако в ней очень сильно дает о себе знать отцовский эгоцентризм.
В ходе преодоления духовного кризиса, в котором она оказалась, Веронике предстоит согласовать эти противоположные характерологические признаки, полученные ею по наследству. Одиночество — зло, ибо приносит страдания, но уединение благотворно, оно позволяет человеку духовно сосредоточиться, лучше понять себя, свои мысли и дела. Чтобы избавиться от одиночества, Вероника ищет уединения, в котором и создается ее книга-исповедь. И здесь ей на помощь приходит отцовская склонность к саморефлексии, которая, однако, в данном случае пронизана обостренным самокритицизмом, не свойственном отцу героини на протяжении большей части его жизни и проявившемся в нем лишь на склоне лет. А побудительным мотивом для Вероники в процессе переосмысления ее прошлого служит во многом пример матери, отличавшейся не просто готовностью и умением завязывать отношения с другими, но и способностью проявить душевное тепло и понять их.
Смысл того, к чему стремиться Вероника, можно выразить ее же словами: «Растопить кусочек льда в сердце». Правда, в момент написания этих слов она имеет в виду лишь мужчин, однако по ходу повествования выясняется, что «кусочек льда в сердце» носят и женщины, и вообще, многие люди независимо от пола, возраста, социальной и другой принадлежности. Вероника — одна из них, которая при этом оказывается способной осознать свой «сердечный» недуг и вести дело к тому, чтобы от него избавиться.
Этическая природа человека, согласно Куэто, не только заключает в себе необходимость понимать и чувствовать других людей, но и сохраняется благодаря их влиянию (которое, впрочем, как хорошо известно, может быть и отрицательным, разрушительным в нравственном отношении, однако этот аспект проблемы писателем не рассматривается, главную свою задачу он видит в том, чтобы пробуждать в читателе «чувства добрые»). Неожиданная встреча Вероники с Ребекой в самолете положила начало процессу критического самоосмысления главной героини под этическим углом зрения, активизирует в ней работу совести, в результате чего она приходит к нравственному обновлению.
Примечательное совпадение, обусловленное этической озабоченностью двух авторов: Гюнтер, герой романа Маркоса, переживает нечто подобное тому, что произошло с Вероникой. Поворотный момент в его судьбе, приведший к выходу из состояния эгоцентризма и ложной самодостаточности, вызван внешним импульсом, исходящим из другого, — беседой с буэнос-айресским адвокатом. Вот только Гюнтер, финансист и прагматик, — натура экстравертная, не склонная к саморефлексии, поэтому его духовная эволюция не изображается в подробностях, а лишь обозначена в резюмирующих высказываниях и поступках героя. Другое дело — Вероника, сочетающая в себе экстравертность (журналистика) с интровертностью, которая особенно свойственна женщинам, а умение профессионально обращаться со словом позволяет ей воплотить свои мысли и чувства в книге, которую она пишет по воле подлинного автора данного произведения. Куэто — писатель-психолог, наделенный вкусом и талантом изображать сложнейшие перипетии внутренней жизни человека, этическая направленность романа «Шепот женщины-кита» реализуется в повествовании художественно-психологического типа.
Отношения между двумя героинями Куэто сложные, включают в себя моменты притяжения и отталкивания. Ребека восхищается Вероникой, любит ее и, вместе с тем, испытывает к ней зависть, доходящую до ненависти. Вероника, разделяя общую неприязнь к физическому неблагообразию своей школьной подруги, отдает должное ее уму, практицизму в сочетании с тонкостью натуры, силе характера, более того, она признается себе, что с течением времени полюбила Ребеку. Перед нами — отсылающая к Платону версия любви «… чисто духовная любовь между близкими по умонастроению людьми, далекая от сексуальных импульсов» [2, с. 436]. У Куэто двух его героинь сближают потребность в самопознании, стремление обрести свое подлинное «я», которое раскрывается перед каждой из них во взаимодополняемости погружения в своей внутренний мир и общения-диалога с другой, близкой по духу героиней.
И вот наступает кульминация в истории этих отношений. По окончании публичного мероприятия, в котором участвовала Вероника, Ребека поднимается на сцену с букетом цветов в руках. Но вопреки своему первоначальному намерению, (прорываются наружу затаенные зависть и злоба) вместо того, чтобы поцеловать подругу в знак восхищения ее блестящим выступлением, наносит ей опасный для жизни укус в шею. Далее следует развязка. В больничной палате, где лежит Вероника, появляется Ребека, просит прощения за содеянное, кается в недобрых чувствах, которые она питала к Веронике. А та признает свою долю вины в том, что жизнь подруги сложилась столь несчастным образом. В душах обеих героинь воцаряются покой и умиротворение, приходит ощущение полноты индивидуальной сущности, что оказывается возможным лишь в результате пробуждения и раскрытия этического начала.
Действие романа Куэто развивается в мире, который изобилует артефактами и практиками, привнесенными глобализацией. Это не только компьютеры и мобильные телефоны. Герои книги, подобно многим людям сегодня в самых различных частях света, едят зерновые хлопья с йогуртом и сэндвичи с ветчиной, совершают шопинги, посещают тренажерный зал, играют в гольф и теннис, ходят в сауну, проводят время на коктейлях и презентациях. Этот космополитический, глобализированный образ жизни воспринимается ими как нечто само собой разумеющееся, органичное и комфортное. Отношение автора к глобализации — уравновешенно-позитивное, о чем наглядно свидетельствует следующий пример.
Среди общих знакомых Вероники и Ребеки есть американец Фил Итс, сотрудник торгового отдела посольства США в Перу. Вероника испытывает к нему самые теплые чувства: «…Мне нравилось разговаривать с Филом … Он работал в Кении и Мексике, прежде чем приехать в Лиму. Жизнерадостный тип с ирландским чувством юмора и развитым интеллектом, чему способствовали перемены места жительства. Он ощущал себя американцем так же, как жителем любой другой страны и в то же время никакой другой части света». Обращает на себя внимание, что своим высоким интеллектуальным уровнем Фил во многом обязан перемещениям по миру, опытом жизни в разных странах, и что патриотизм, этнокультурная идентичность героя — «…ощущал себя американцем…» — не противопоставляется здесь универсализму, который в данном случае не имеет ничего общего с «безродным космополитизмом» «денационализацией», «утратой корней и связи с родной почвой», а служит выражением общечеловеческого начала в характере и поведении персонажа.
На одном из коктейлей между Филом и Ребекой происходит примечательный диалог, после того как Вероника представила их друг другу: «Да мы знакомы, — сказала ему Ребека. — Вы из торгового представительства. Нет? // Ну, я помогаю людям, которые продают и покупают в Перу, — ответил Фил, — а также тем, кто продает и покупает в Соединенных Штатах. // Ворам Вашей страны, которые хотят, чтобы мы всегда оставались бедными, — заявила Ребека. // … Но правда состоит в том, что мы стремимся создать наилучшие возможности для всех. И здесь, и там. Соединенные Штаты заинтересованы, чтобы Перу развивалась, как и вся Латинская Америка, — добавил он …. // В Соединенных Штатах много подлецов, много каналий, много мошенников, господин Итс. // Разумеется, что в Соединенных Штатах есть не слишком щепетильные люди, как и повсюду, но это не значит, что все такие, сеньора». Ребека представляет в этом диалоге антиглобалистскую, с антиамериканским акцентом, позицию, которую автор явно не разделяет.
Важную роль при этом играет ирония, возникающая в результате того, что слова героини не соответствуют некоторым фактам ее жизненного пути. Она получила высшее образование в Нью-Йорке, что помогло ей в дальнейшем приумножить капитал, полученный по наследству от тетушки; отдыхать она предпочитает на лучших американских курортах, большую часть продукции своей текстильной фабрики продает в США. Уже не иронично, а напрямую, резко и категорически, ее слова оценивает Вероника: «Ребека, не говори глупостей», и автор здесь вполне солидарен со своей главной героиней.
Сама Вероника высказывается о глобализации следующим образом: «Мир стал шире, увеличилось количество независимых государств (…), а мы так мало о них знаем. Есть десятки, может быть, даже сотни стран, о которых мы понятия не имеем. … Мир — это три или четыре экономических блока и центра силы, борющихся между собой. Мы все взаимозависимы … Вожди и президенты. Жизни, смерти, страдания, надежды и мечтания простых людей… Как живет немец, сенегалец или бирманец? Так много людей! Сколько разных людей!» В этих словах выражено благосклонное отношение к глобализации, хотя и не все здесь однозначно. Мир стал, действительно, шире, но стал ли он лучше, безопаснее, гуманнее? Отчасти на этот вопрос отвечает Вероника, говоря о борьбе экономических блоков и центров силы, — войны, конфликты, геополитические противостояния никуда не делись и в эпоху глобализации даже приобрели угрожающие масштабы, что означает новые угрозы и страдания для миллионов жителей Земли. Но героиня (и стоящий за нею автор) акцентируют внимание на другом: глобализация способствует расширению познавательных горизонтов человека, обостряет чувство единства человеческого рода, потребность быть сопричастным судьбам других людей — не только близких, но и далеких, т.е. она заключает в себе потенциал гуманизации человечества. А уж как им распоряжаются, это другой вопрос.
Глобализация привела к обострению проблемы этнокультурной идентичности — факт общеизвестный, но для героев Куэто он не релевантен, при том, что они по своему образу жизни целиком принадлежат типу «человека глобализованного». С этнокультурной идентичностью у них все обстоит благополучно. Они продолжают чувствовать себя перуанцами, латиноамериканцами, не воспринимая процессы глобализации в качестве угрозы этому своему состоянию. Герои романа употребляют в пищу распространенные по всему миру, преимущественно американские, блюда и нисколько не пренебрегают своей традиционной перуанской кухней; в этой области — кулинарии, которая с некоторых пор стала объектом серьезного культурологического интереса, Куэто находит символ желаемого состояния, гармонии между локальной и чужеземной традициями. Речь идет о коктейле «Писко сауэр», который делается на основе популярного в андских странах (а в Перу даже признанного национальным достоянием) напитка «писко» с использованием американской рецептуры.
Проблемой своей этнокультурной идентичности герои Куэто особенно не озадачиваются. Для них куда важнее идентичность личностная. Они ищут ответ на вопрос «Кто я?» (его задают себе и Вероника, и ее отец, и Ребека), который имеет два аспекта. Один — это соотнесенность человека с собственной совестью, с изначально заложенным в его природе нравственным императивом, диктующим ему определенные обязательства по отношению к окружающим. Другой аспект — выявленность и целостность характерологических признаков личности, т.е., собственно, ее характер. Вероника пишет: «Лицо любого человека — своеобразная визитная карточка … В лице Милагрос все сходится, соединяется. Линии связаны между собой в одно целое… А в лице Тито Драго нет центра, есть огромное количество штрихов, разбегающихся, словно с перепугу, к периферии. Рыхлое тесто среди развалин». Сама героиня всю свою сознательную жизнь тщательно оберегала этот второй, психологический, аспект своего «я» — в том числе и от возможного разрушительного, как она считала, воздействия на него не формальной, а живой непосредственной вовлеченности в дела других людей. Но оказывается, что «центр», чем более он обогащен нравственным началом, тем ярче проявляется, способствуя тем самым достижению гармонии в душе человека.
Доминирование в романе Куэто проблемы личностной идентичности предполагает выбор его формы — повествование от первого лица в виде воспоминания-исповеди. Комментатор трудов французского философа Поля Рикера Евгений Геннадьевич Довбыш пишет: «… одной из способностей человека является способность рассказывать о своей жизни и, следовательно, формировать собственную идентичность посредством нарратива, основанную на своих воспоминаниях. Рассказ индивида о себе создает связь индивида с сами собой. // Жизненная история, рассказанная индивидом, — это, в понимании Рикера, есть артикуляция личностной идентичности в темпоральном измерении человеческого существования… Рассказанная история говорит о «кто?» … и идентичность этого «кто?» есть повествовательная идентичность. // Одной из характеристик повествовательной идентичности является ее этические измерение. Повествовательная идентичность всегда носит оценочный, нормативный характер, и любой такой рассказ не является этически нейтральным» [3, с. 783]. Именно так и обстоит дело в романе Куэто.
В процессе чтения романа, по мере того как все определеннее проявляется его этико-психологическая направленность, все чаще возникает вопрос: «При чем здесь глобализация?» Зачем в очередной раз напоминать об ее атрибутах: о том, что кто-то из героев сел за компьютер, разговаривает по «мобильнику», ест зерновые хлопья с йогуртом, совершает «шопинг» или общается со знакомыми в «ресэпшн»? Вроде бы к проблемам, волнующим Веронику, Ребеку и других персонажей, все это отношения не имеет. Но, с другой стороны, погружаясь в текст и отдавая должное мастерству и таланту автора, понимаешь, что Куэто не тот писатель, который разбрасывается ненужными деталями, подобно новичку или дилетанту в литературе.
Такие детали, однако, необходимы, они характеризуют героев романа как людей эпохи глобализации, но не в качестве ее жертв или бенефициантов, апологетов или обличителей. Куэто вообще склонен уклоняться от споров на данную тему (глобализация) в смысле «Кто за?», «Кто против?» Весьма определенно высказав свое в целом позитивное мнение на сей счет, он стремится перевести разговор из плоскости полемики между сторонниками и противниками глобализации в плоскость того, что можно обозначить как полемику с самой этой полемикой. Упомянутые детали еще и оттеняют спокойное, уравновешенное восприятие героями Куэто феномена глобализации: будучи глубоко абсорбированными ею, они не испытывают особых эмоций по этому поводу, единственное в романе антиглобалистское, антиамериканское (и весьма эмоциональное) высказывание Ребеки убедительно дезавуируется фактами ее же биографии.
И все это происходит в Латинской Америке с традиционным для ее культуры предельно обостренным восприятием проблемы этнокультурной идентичности. В чем причина такого подчеркнуто бесстрастного отношения к ней в романе Куэто? Возможно, глобализация пробудила в сознании латиноамериканцев тот факт, что сама Латинская Америка есть результат глобализационных процессов, не нынешних, а тех, что ей предшествова-ли, — экспансии иберийских стран (Испании и Португалии) в XV— XVI вв., а затем и всего Запада; этнический состав населения, многие особенности жизненного уклада и культуры Латинской Америки — «…все это, — по словам отечественной исследовательницы, — было бы невозможно без глобализации» [4, с. 16]. Так что глобализация для латиноамериканцев — дело вполне привычное.
Можно, впрочем, предположить, что они просто подустали от многовековой неустанной сосредоточенности на проблеме своей этнокультурной идентичности и перед нами — пример охлаждения интереса к ней подобно тому, как это имело место в ранний период испано-американского модернизма конца XIX в. — первого десятилетия XX в., который в дальнейшем, однако, вновь обратился к этой проблеме. В любом случае речь идет не о сугубо индивидуальной, исключительной позиции перуанского автора. Напомним, что и Маркос не высказывает особой тревоги по поводу негативного влияния глобализации на этнокультурную идентичность своих героев-латиноамериканцев и что он убежден, что первая нисколько не препятствует полноценному, аутентичному проявлению второй, и вообще, он, подобно Куэто, первостепенное значение придает этическому фактору.
Оба они — и Маркос, и Куэто — значительные писатели, не последние люди в своих национальных литературах, и в этом качестве они не могут не выражать некие широко распространенные общественные умонастроения. Более того, сравнение романов этих двух авторов, которые отражают разные состояния процесса глобализации — Маркос — ранее, Куэто — зрелое, — позволяет увидеть определенную социопсихологическую динамику, а именно, ослабление остроты переживания проблемы этнокультурной идентичности в современной глобализированной Латинской Америке. Маркоса эта проблема интересует в гораздо большей степени, чем его младшего по возрасту перуанского коллегу.
Для обоих авторов главный предмет внимания — этика, и судьба глобализации, человечества в целом, согласно мысли, нигде напрямую не высказанной, но неизбежно вытекающей из содержания обеих книг, зависит от того, каким будет человек в этическом отношении. Мысль, конечно, не новая, но когда о ней напоминают писатели уровня Маркоса и Куэто, то она звучит свежо и убедительно. К такого рода напоминанию нельзя не прислушаться.
Источники и литература / references
1. Варгас Льоса М. Глобализация и культурная идентичность. Available at: >>> (In Russ), 16.03.2017.
2. Платоническая любовь. Словарь античности (перевод с немецкого). М.: «Прогресс», 1993.
3. Довбыш Е.Г. Поль Рикер. Идентичность, личность, общество, политика. Энциклопедическое издание (отв. редактор — член-корр. РАН И.С.Семененко). ИМЭМО РАН, М.: Издательство Весь мир, 2017.
4. Смирнова Юлия. Уроки интеграции по-латиноамерикански. Санкт-Петербургский Университет, 2017, № 6 (3907).
Библиография
- 1. Варгас Льоса М. Глобализация и культурная идентичность. Available at: http://noblit.ru (In Russ), 16.03.2017.
- 2. Платоническая любовь. Словарь античности (перевод с немецкого). М.: «Прогресс», 1993.
- 3. Довбыш Е.Г. Поль Рикер. Идентичность, личность, общество, политика. Энциклопедическое издание (отв. редактор — член-корр. РАН И.С.Семененко). ИМЭМО РАН, М.: Издательство Весь мир, 2017.
- 4. Смирнова Юлия. Уроки интеграции по-латиноамерикански. Санкт-Петербургский Университет, 2017, № 6 (3907).