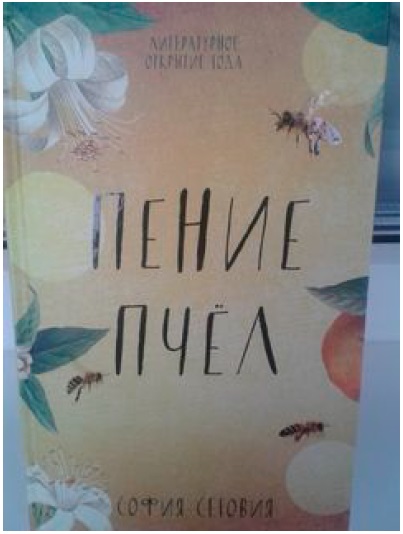- Код статьи
- S0044748X0017498-6-1
- DOI
- 10.31857/S0044748X0017498-6
- Тип публикации
- Рецензия
- Статус публикации
- Опубликовано
- Авторы
- Том/ Выпуск
- Том / Выпуск № 12
- Страницы
- 93-103
- Аннотация
В статье рассматривается роман мексиканской писательницы Софии Сеговии «Пение пчел», изданный на русском языке в 2021 г. Действие романа, написанного в жанре латиноамериканского «магического реализма», разворачивается на фоне драматических событий периода «революционного каудильизма», наступившего после мексиканской революции 1910—1917 гг. В этом произведении, являющемся литературным открытием года, дана необычная, по сравнению с официальной историографией, трактовка революционных событий.
- Ключевые слова
- история Мексики, мексиканская революция 1910–1917 гг., «революционный каудильизм», Венустиано Карранса, Альваро Обрегон, Плутарко Кальес
- Дата публикации
- 24.11.2021
- Год выхода
- 2021
- Всего подписок
- 12
- Всего просмотров
- 989
С большим удовольствием представляю читателям журнала русский перевод романа мексиканской писательницы Софии Сеговии «Пение пчел», повествующего о жизни семьи в большом «доме-улье», о памяти и о сильных человеческих чувствах. Но в то же время одним из главных действующих лиц этого произведения является История — история Мексики, точнее, одного из ее ключевых событий — мексиканской революции 1910—1917 гг. и последовавшего за ней периода, называемого в историографии «революционным каудильизмом» и рассматриваемого как продолжение революции. Фактически в романе описана судьба нескольких поколений семьи на фоне «долгой» (этот термин используется историками для обозначения исторических периодов, которые выходят за «обозначенные» для них хронологические рамки) мексиканской революции.
В этом смысле роман вписывается в традицию великих классических произведений французской и русской литературы: личность на фоне истории. Если во французской литературе XIX в. личность человека дана на фоне исторических событий, то в русской («Война и мир» Л.Н.Толстого) эти события сами становятся героями произведения. А в романе С.Сеговии перемежаются и тема «личности на фоне истории», и тема «истории на фоне личных судеб», и даже — в плане показа судьбы «маленького человека» — традиционной темы как раз для русской литературы — здесь можно обнаружить чеховские мотивы, но лишь с тем отличием, что действие происходит на фоне не камерных событий, как у Чехова, а на фоне самой Истории.
В романе дана широкая картина жизни семьи — Дома с большой буквы — и одновременно показано, что «жить в обществе и быть свободным от общества нельзя», что исторические события врываются в уютный и размеренный быт, в налаженную жизнь и меняют их с жестокой неотвратимостью и непреклонностью. По словам самой Сеговии, это история «не с цифрами в руках», а с показом того, чтó означает «быть актором внутри истории».
Вместе с тем «Пение пчел» — типично латиноамериканский роман. Представляется, что это драматическое произведение во многом построено на принципах «магического реализма» и мистицизма. Такова вся линия, связанная с брошенным, а затем счастливо спасенным мальчиком Симонопио, обладавшим сверхъестественными способностями и спасшим семью, в которую его забросила судьба. Пчелы взяли Симонопио под свою магическую защиту и повсюду сопровождали своим пением, в котором оказались заложены человеческие эмоции, настроения, горести и радости. Здесь явно просматривается традиция Габриэля Гарсиа Маркеса. Но одновременно это и глубоко реалистичный и трагичный в своем реализме роман, трагичный прежде всего в описании феноменов и эксцессов революции.
Мне хотелось бы поздравить издательство с отличным выбором книги для публикации и особо отметить превосходный перевод Надежды Беленькой. Глубокий, насыщенный русский язык, в полной мере передающий глубину и многогранность оригинала, — отличительная черта перевода, позволяющая героям Сеговии как бы заговорить по-русски. Я уже не говорю о великой миссии перевода, в полной мере воплощенной в работе, выполненной Н.Беленькой: речь идет о сближении культур, о важнейшем культурно-цивилизационном «мосте», перекинутом благодаря этому переводу между российским и мексиканским мироощущением и мировосприятием, отношением к жизни, истории и вечным истинам («векам, истории и мирозданью», по образному выражению В.Маяковского).
Итак, перед нами — исторический роман. Но у Сеговии обнаруживается и ряд «вольностей». Вот как говорит об этом она сама: источником вдохновения для написания романа «послужили исторические события». «Ключевое слово здесь — «вдохновение», поскольку именно оно открывает бесконечные возможности и позволяет автору перетасовывать факты и события по своему усмотрению. …И, хотя для меня была важна точность в описании исторических событий, я не особо беспокоилась насчет верности дат. Многие из них абсолютно достоверны, например, правление Фелипе Анхелеса, во́йны, испанка, отсылки к конституции 1917 г., закон о незанятых землях. Некоторые достоверны лишь отчасти, как, например, визит Анхелеса в Линарес, закон о фруктовых деревьях, переход линаресских фермеров к возделыванию цитрусовых. Где-то я складывала два плюс два, в других случаях перенесла даты на несколько лет вперед» (c. 510).
В романе описана жизнь нескольких поколений семьи на фоне драматических событий мексиканской революции. Эта революция была одной из самых глубоких не только в Мексике, не только в Латинской Америке, но и в мире. Начало XX в. — время серьезных потрясений в разных регионах планеты, время выхода на мировую арену широких масс. Совершились массовые революции — и три российские, и революции в Персии (Иране) и в Мексике. Народу, народным массам предстояло стать носителем исторических перспектив, решать задачи, которые стояли перед обществом.
И в мексиканской, а вслед за ней и в российской историографии мексиканской революции народ рассматривался именно как носитель прогресса, вдохновитель реформ, необходимых для дальнейшего развития страны. А в романе все это показано с иной стороны — глазами представителей имущих классов, т.е. тех, у кого отнимают землю или имущество. По признанию Сеговии, «мексиканская революция много обсуждается в Мексике», и «роман потребовал обширнейших исследований»». «Я заполнила недостающие пазлы: дала то, чего нет в официальной историографии, показав историческую картину глазами тех, кто не приобретает, а теряет» (курсив мой. — Л.О.).
Таким образом, в этой книге мексиканская революция изображена необычным для нас образом — не с позиции революционеров, народа, а с позиций тех, кого мы традиционно называли латифундистами, землевладельцами, имущими классами. Для них революционеры были не «идеалом человечества», а бандитами, которые грабили и убивали людей, забирали урожай. От рук каррансистов погибает отец одной из главных героинь романа. Они — владельцы поместий, асьенд, плантаций — называли эти события не революцией, а войной. Эти слова — война, тяготы войны — проходят через весь роман. Употребляется и другое определение — «фарс под названием «революция». И в силу такого подхода привычная историческая картина предстает совсем в ином свете.
Подобная оптика, противоположная привычному, традиционному подходу, знакома и нам в России. Можно привести произведения русской литературы, где наша революция 1917 г. показана с иной, противоположной бытовавшей ранее официальной точке зрения, стороны: «Окаянные дни» Бунина, «Белая гвардия» Булгакова, «Красное колесо» Солженицына, «Аристономия» Акунина. Но несмотря на подготовленность к восприятию иной трактовки хорошо известных событий, удивление от нового разворота привычного подхода — уже на мексиканском материале — остается.
Сделаем небольшое отступление, чтобы заметить, что здесь сыграло свою роль и имевшее место известное прерывание единого исследовательского метода, в частности, в подходах к изучению истории Мексики, связанное с общим состоянием, в котором оказались общественные и исторические науки в период кардинальных перемен, происходивших в нашей стране. Фактически «прервалась связь времен»: школа научного анализа мексиканской истории, созданная корифеями-мексиканистами 1950—1980-х годов (М.С.Альперович, Н.М.Лавров, Б.Т.Руденко, А.Ф.Шульговский, Е.Г.Лапшев, А.А.Соколов) [1, 2, 3, 4, 5, 6], не получила подпитки в виде особого направления, в лице продолжателей этой исследовательской традиции. И хотя (пусть и в небольшом количестве) защищались блестящие диссертации по важным вопросам мексиканской революции (В.В.Керов, А.А.Манухин), плодотворно изучалась современная экономическая, политическая, социальная ситуация в Мексике (А.Н.Боровков, Ю.И.Визгунова, В.М.Давыдов, З.В.Ивановский, Е.С.Пестковская, Т.П.Петрова, Л.Н.Симонова, В.П.Сударев, В.Л. и Л.С.Хейфецы, И.К.Шереметьев), нить исторического мексикановедения во многом была утрачена [7]. В отсутствие нового поколения специалистов оказалось некому следить за развитием и эволюцией мексиканской историографии революции 1910—1917 гг., за появлением в ней новых подходов и концепций. А они как раз имели место. Так, известный французский мексиканист Раймон Бюве констатировал, что уже с 1960 г., когда отмечался полувековой юбилей начала революции, «ее историография претерпела значительные изменения. Официальное видение революции как некоей однородной величины, от которой выиграли абсолютно все мексиканцы, как общенациональной революции, в торжество которой внесли вклад все без исключения штаты, разбилось о работы исследователей как центральных учреждений науки, так и в конкретных штатах»; также «была опровергнута официальная периодизация»: появились иные трактовки начала и окончания революционного процесса (который в Мексике трактуется как имевший место в 1910—1940 гг., а не закончившийся принятием конституции 1917 г. — Л.О.). Было показано, констатирует Бюве, что революция отнюдь не с одинаковой интенсивностью развивалась на всей территории страны, — ситуация менялась от региона к региону. Очень многие эпизоды «военной и политической мобилизации происходили именно в конкретных областях и местностях, и только немногие из них носили общенациональный характер». «Еще начиная с эпохи порфириата целые поколения социально-политических акторов действовали на сугубо локальной базе в соответствии со своими нормами, ценностями и интересами». Более того, замечает Бюве, взгляд на революцию «снизу» показывает, что на этом низовом уровне сам термин «революция» имел весьма малое значение [8, p. 9-10]. Кстати сказать, Сеговиа специально оговаривает, что событийная канва романа касается северо-западных районов Мексики (на это можно было бы не обратить внимания, если бы не процитированное выше замечание Бюве о «регионалистском разрезе» революции и не тот факт, что сама его работа опубликована в сборнике, описывающем эффекты революции на востоке страны: ни тени «общетерриториального» подхода…).
Мексиканская революция — это продолжительный период серьезных политических, социально-экономических и культурных изменений. Она положила начало другому историческому этапу — этапу создания государства нового типа. Стабильность конца XIX в. закончилась в начале века двадцатого [9, сс. 247-248]. Революция была длительной и ознаменовалась драматическими поворотами, переплетением деятельности различных акторов, участием разнородных социальных сил, активной ролью народа. В этом смысле можно сказать, что с ее окончанием (если считать таковым принятую в отечественной историографии дату принятия конституции 1917 г.) в Мексике завершился «долгий XIX век» — турбулентный век войны за независимость, борьбы либералов и консерваторов, войны с США с «отхватыванием» ими половины тогдашней территории страны, бурной революции с принятием конституции 1857 г. и «Законов о Реформе» Бенито Хуареса 1859 г., трехсторонней иностранной интервенции, диктатуры Порфирио Диаса. Но на деле мексиканская революция не закончилась принятием конституции. И в этом — также ее отличительная черта.
Зафиксированные в конституции 1917 г. основополагающие статьи — об аграрной реформе, о роли государства, трудовой кодекс, о месте церкви в общественном механизме — еще только предстояло воплотить в жизнь. И эта задача выпала на период режима «революционного каудильизма». А полная реализация этих статей конституции произошла в эпоху Ласаро Карденаса (1934—1940 гг.) — аграрная реформа, эхидо, национализация нефти, широкое трудовое законодательство, ограничение всевластия церкви, народное образование. (Отметим, что значение этих реформ, как и значение мексиканской революции в целом, вышло за пределы Мексики: борьба за подобные реформы стала содержанием новейшей истории всей Латинской Америки в XX в. — это борьба против диктатур, за демократию, за аграрную реформу, против латифундизма, против иностранного капитала, в защиту национального суверенитета, за решение социальных проблем.) Поэтому реформы Карденаса и рассматриваются как продолжение революции 1910—1917 гг., а ее завершение логично приурочивается к 1940 г. — году окончания его президентского мандата. Именно по этой причине постреволюционный период, включающий в себя режим «революционного каудильизма» и президентство Карденаса, получил название «непрерывной (или перманентной) революции», длившейся с 1910 по 1940 г г.
Для понимания исторического контекста кратко обратимся к описанию обстановки, в которой живут герои романа «Пение пчел». Время, в рамках которого разворачивается действие романа, — режим «революционного каудильизма».
Правление первого из череды «революционных каудильо» — генералов эпохи революции — Венустиано Каррансы (1916—1920 гг.) можно разделить на два периода: доконституционный и конституционный, линия раздела между которыми приходится на май 1917 г., когда он победил на президентских выборах. Первый этап характеризовался преобладанием военного фактора. В вооруженных силах оставались сторонники Панчо Вильи и Эмилиано Сапаты — вождей крестьянских армий, в различных регионах страны (например, в нефтяном районе побережья Мексиканского залива, в Веракрусе, Чиапасе, Оахаке и Мичоакане) возникли свои вооруженные движения, сопротивлявшиеся революционным переменам. К этому добавилась «карательная операция» США в 1916—1917 г., проведенная в ответ на захват отрядами Вильи пограничного с Мексикой американского городка Колумбус. В 1917 г. внутренняя ситуация была очень напряженной. Армии Сапаты и Вильи продолжали борьбу. Но их действия затухали по мере истощения продовольственных ресурсов. Начались грабежи. Кроме того, продолжалась борьба между различными политическими группировками (порфиристы и др.), и у каждого их предводителя были свои армии. Сам Карранса «для умиротворения страны» тоже предпринял ряд военных операций, прежде всего против Сапаты, который угрожал захватить столицу. Он пленил и расстрелял генерала Фелипе Анхелеса (он упоминается в романе) за его вступление в армию Вильи. В итоге сторонники Вильи и Сапаты были разбиты (сам Сапата был убит в 1919 г.), и правительство Каррансы, перестав нуждаться в массовой народной поддержке, начало отходить от политики социально-политических уступок этим слоям населения, проводившейся в 1914—1915 гг. [9, сс. 273-274]. В 1920 г. против Каррансы вспыхнул мятеж Альваро Обрегона. Карранса бежал в Веракрус, но не доехал и был убит военными.
При Каррансе и следующих «революционных каудильо» — А.Обрегоне и П.Калье- се — с большей или меньшей интенсивностью проводились ключевые реформы, провозглашенные конституцией 1917 г. Обрегон начал осуществлять аграрную реформу, но в недостаточном для страны объеме. При Кальесе она шла более активно, было распределено в три раза больше земли, чем раньше, но массы сельского населения так и не получили реального доступа к земле. Эта коллизия и описана в романе.
Теперь обратимся к тексту романа. Вот как в нем описано начало революции: «…что было нужно стране для обновления и торжественного вступления в ХХ век. Здравый смысл неизбежно восторжествует, война закончится долгожданным уходом бессменного и обрыдшего всем президента Диаса, после чего вновь воцарится мир. В итоге единственным благоразумным человеком во всей этой истории оказался Порфирио Диас, который выпустил власть из рук, поняв, что не стоит защищать то, что в защите не нуждается, упаковал свои чемоданы и после недолгих месяцев столкновений покинул страну. Это была развязка, которую ждали все. Долгожданная победа. Точка. Его бегство означало конец драмы. Как же все ошибались!
Очень скоро главные действующие лица фарса под названием «Революция» забыли о согласованном сценарии, воспрянули духом и принялись вставлять в него собственные диалоги и монологи, состоящие из предательств и расстрелов. Либретто первых дней кануло в Лету. Кое-кто решил обогатиться за счет свинца, земель и чужого богатства, другие мечтали усесться на трон. Никому не приходило в голову — а может, не было желания — поставить друг напротив друга два трона, чтобы поговорить без пуль, и не вставать с места, пока не будет достигнут мир. Они ревностно принялись вооружать послушный народ и поставили его под командование безумцев, убивавших всех без разбору и чуждых каких-либо представлений о военной этике и чести. Несколько лет назад эта война перестала быть далекой и диковинной и превратилась во всюду проникающий яд» (с. 62-63).
В романе фоном говорится о разнородных армиях, «рыскающих по стране» в поисках пропитания, о грабежах и отъеме земли: «Война между враждующими мексиканскими солдатами стала трагедией, но худшим было то, что касалась она и мирных жителей, поглощенных работой, семьей, воспитанием сыновей и дочерей» (с. 61). Эти враждующие солдаты могли быть как сторонниками Каррансы или входили в отряды на службе многочисленных враждовавших между собой политических сил, так и теми, кто был в составе народных армий Сапаты и Вильи. Все они представлены глазами тех, у кого отнимали землю и кого грабили, поэтому эти «разнородные армии» описаны в крайне отрицательных тонах — как грабители, захватчики, убийцы, насильники.
«Война отняла у них [пострадавших от революции зажиточных героев романа. — Л.О.] мир, спокойствие, уверенность в завтрашнем дне и чувство безопасности. По Линаресу разгуливали разбойники, которые убивали и грабили» (с. 46). А гнал их на грабеж «ненасытный голод, сметающий все на своем пути» (с. 47).
Вот описание аграрной реформы — главного детища революции — глазами того, у кого отбирают землю и передают ее тому самому «народу», который составлял армии Сапаты и Вильи. Даже после 1923 г. сторонники аграрной реформы по-прежнему «рыскали по округе»: «Теперь этим армиям требовалась земля — такая, как его [главного героя. — Л.О.] асьенда и плантации. Земля и свобода. Все боролись за одно и то же, и ему [главный герой, зажиточный Франсиско Моралес. — Л.О.] — таким, как он, — негде было укрыться от перекрестного огня. Единственное, что сулила ему аграрная реформа, за которую ратовали все армии, была потеря земли; декрет означал изъятие земель в пользу кого-то, кто их возжелал, но ни разу на них не потел и ничего про них не знал. От земли придется смиренно отказаться, когда неизвестный постучит в дверь, — так же, как в тот день он отказался от урожая маиса: молча, без лишних слов. В противном случае его ожидала смерть» (с. 47).
В романе описана страшная на тот момент (1918—1920 гг.) болезнь испанка, от которой погибало огромное количество людей. В местечке Линарес — месте действия романа — испанка бушевала в 1919 г.1. «Войны и грабежи не прекратились даже после трех месяцев испанки. Для мужчин по-прежнему существовал риск загреметь в одну из многочисленных армий, да и женщин могли похитить в любой момент» (с. 202).
Автор описывает квинтэссенцию классового противостояния: владельцы земли (а это — главные герои романа) говорят о законе об аграрной реформе как о «провозвестнике беспредела и насилия» со стороны крестьян-пеонов. После 1920 г., при Обрегоне, был принят закон о пустующих землях: «С новым законом о пустующих землях было уже не важно, насколько мал надел: если земля не обработана, ее могли отобрать и передать любому человеку, даже если тот не владел необходимыми знаниями и запросто мог угробить участок. По мнению Франсиско, закон этот был самой настоящей замаскированной экспроприацией. Его положения гласили, что владение необработанной землей разрешается заинтересованному лицу только в течение одного года, однако, если тот стал ее собственником, кто заставит его покинуть землю? Правительство, которое само же ему и выделило эту землю в пользование? И кому в таком случае ее вернут — законному владельцу? По его мнению, закон был предвестником беспредела, который ждет их в случае принятия аграрной реформы» (с. 245).
«Франсиско считал, что подобные меры правительства могут привести к насилию — либо со стороны пеонов, желающих завладеть землей, либо со стороны аболенго, жаждущих защитить или вернуть свою собственность. В Линаресе возрастало напряжение: каждый визит инспекции из кооператива воспринимался владельцами сахарных плантаций как угроза. По окраинам, как стервятники, рыскали любители поживиться чужой собственностью, выбирая участки для захвата, разрешение на который подписывали они же сами или целая компания таких, как они. Землевладельцам приходилось объединяться и оплачивать отряды обороны, чтобы защитить свои интересы, особенно после насильственного и незаконного захвата земель…» (с. 246).
Хозяин плантации Франсиско Моралес, может, и хотел бы нанять новых пеонов, но ситуация не позволяла этого сделать: «Линарес наводнили беженцы из окрестных деревень, вынужденные покинуть свое и без того нищее хозяйство, еще больше пострадавшее из-за постоянных набегов грабителей, а заодно и собственной армии. Известно об этих людях было лишь то, что все они пребывали в отчаянии. Франсиско чувствовал бы себя точно так же, если бы кто-то присвоил его собственность или прогнал его с земли. Возможно, он мог бы время от времени давать этим людям работу, но он не хотел селить их на своей земле. Он знал, что постепенно, под прикрытием реформы, они попытаются ее присвоить» (с. 248).
В середине 1920-х годов разговоров об аграрной реформе было так много, что даже ребенок был к ним причастен. Пассаж, приведенный ниже, дает отчетливое представление о состоянии умов и о настроениях имущих слоев: «Особенно запомнилось мне слово, которое в ту пору было у всех на устах: реформа. Я понимал лишь то, что эту самую Реформу Аграровну никто не любит. Раньше я не понимал, почему из стольких шумных, суетливых, болтливых и пахнущих камфарой родственниц — всех этих Долорес, Рефухио, Ремедиос, Энграсий, Ампаро, Милагрос, Асунсьон, Консуэло, Росарио, Консеп-сьон, Мерседес и еще одной Рефухио — именно тетушку по имени Реформа не принимают и поносят последними словами. Ее нельзя принимать, она не должна на нас обрушиться, ее нужно избегать всеми силами. «Интересно, что же она такое натворила?» — спрашивал я себя, слыша очередное нелестное упоминание об этой особе. …Затем я понял, что грех этой реформы заключался в сведении на нет таких аболенго, как мы, а заодно всех усилий и трудов моего отца. Я понял, что она собирается все у нас отобрать, начиная от образа жизни и заканчивая, возможно, самой жизнью. И тогда впервые меня охватил ужас» (с. 349-350).
В то же время борьба за землю показана в романе и глазами батрака: «Одни ругали, другие хвалили за дерзость тех, кто боролся за собственную землю. Земля должна принадлежать батракам, по-хорошему или по-плохому. Аболенго объединяли усилия, стараясь отпугнуть аграриев организованной ими сельской полицией, но те, кто жаждал земли, поговаривали, что скоро наступит черед закона, если же он промолчит, то оружия. Так нарождалась новая сила — безземельные крестьяне» (с. 298-299). «Аграрии скитались по горам чуть ли не каждую ночь, избегая столкновений с полицейскими, устраивали привал под звездами, чтобы перекусить, попеть свои социалистические песни, а заодно и потолковать, как извести тех, кто в это время сладко спит, уверенный в своей безопасности, как овечье стадо в загоне». «Горы по-прежнему кишели бандами разбойников и мародеров без ремесла и царя в голове. Они блуждали тайком, не нуждаясь в разрешении хозяев этих земель, потому что не желали или же им было невыгодно его признавать» (с. 336).
Работавший на плантации героя романа Франсиско Моралеса батрак Ансельмо Эспирикуэта рассчитывал на то, чтобы, согласно аграрной реформе, получить у Франсиско землю, но тот засеял ее плодовыми (апельсиновыми) деревьями, а по конституции такую землю нельзя было отчуждать: «в конституции опубликовали свежее приложение к аграрной реформе — любая земля, засаженная плодовыми деревьями, освобождается от принудительного отчуждения» [c. 278]. Вот разговор хозяина (главного героя) с батраком:
«Его [Франсиско. — Л.О.] состояние испарилось (банк обанкротился), но владения никуда не делись, и сейчас больше, чем когда-либо, он чувствовал себя не просто обязанным, но и вынужденным защищать то, что осталось. Вот почему он больше не мог позволить себе великодушия, которое всегда проявлял в отношении Эспирикуэты. Вот почему отправился сообщить, что, если тот откажется выращивать на предоставленном ему участке апельсиновые деревья, ему придется уйти. Новость застала батрака врасплох.
— Я девятнадцать лет обрабатываю эту землю и хочу посадить табак.
Франсиско опешил, услышав от Эспирикуэты столько связных слов. Желание выращивать табак было для него новостью.
— Табак выращивали еще до сахарного тростника, но он плохо растет в наших краях. …Давай условимся: ты делаешь то, что говорят, или уходишь. Выращивание апельсинов тебе ничего не будет стоить. Я привезу саженцы. А ты их посадишь и будешь за ними ухаживать. Апельсины отлично продаются, кроме прочего, так у нас никто не отнимет землю, Ансельмо.
Тишина.
— Увидимся в субботу. Я помогу тебе начать.
— Так у вас никто не отнимет землю.
— Ну, да. Ладно, увидимся в субботу.
В тот день, вместо того чтобы поливать маис, Ансельмо Эспирикуэта решил потренироваться стрелять из маузера» (с. 374-375).
В трагической сцене убийства батраком Ансельмо своего хозяина и чуть было не свершившегося убийства его сына предельно наглядно выписана реальная классовая ненависть. А ведь батрак работал в поместье 19 лет. Приведем обширную цитату — это кульминация романа и одновременно своеобразный символ драмы революции.
«[Франсиско] взмахнул рукой в знак приветствия, ожидая ответного жеста. Однако вместо этого Эспирикуэта поднял маузер и прицелился — расчетливо, неторопливо, выровняв дыхание, как опытный стрелок, рассчитывающий попасть в цель с первого выстрела. Франсиско Моралесу-отцу потребовалось лишь мгновение, чтобы в ужасе сообразить: Ансельмо Эспирикуэта целится не в какую-то абстрактную точку у него за спиной, к тому же в руках у него маузер, заряженный пулями, которые выдал хозяин, повторяя, что батраки должны почаще упражняться в стрельбе, чтобы развить меткость. Секунды хватило, чтобы понять: цель — он сам, он и его сын» (с. 411).
«Он (батрак. — Л.О.) хотел выстрелить Франсиско Моралесу в лоб, вышибить ему мозги, выплеснуть из него спесь и гордыню, навсегда стереть с лица выражение превосходства» (с. 426).
«Настал день, когда хозяин наконец умолк и заговорил батрак. Единственный слушатель оказался в полном его распоряжении: Франсиско Моралесу ничего больше не оставалось, кроме как слушать то, что желает сказать пеон. Но пеон уже все сказал ему своей пулей. …Снова выпрямившись, он приставил дуло к шее Моралеса и, более не медля, выстрелил. Ружье сработало без осечки, Эспирикуэта остался доволен выстрелом. Пуля проделала свой путь с быстротой молнии, но гром от выстрела долго еще стоял в ушах, как напоминание о том, что назад пути нет» (с. 428-429).
«…он [батрак Ансельмо. — Л.О.] больше не будет рабом, не станет гнуть спину. Наконец он стал хозяином земли. Эспирикуэта глубоко вдохнул воздух своей плантации, наполняя легкие пылью и свободой. …Ансельмо шел к лежащему впереди телу, не глядя по сторонам. О мальчишке Моралеса [его сыне. — Л.О.] он забыл; после того как папаша рухнул замертво, он выбросил этого щенка из головы. …Моралес дышал и одновременно задыхался. Он был жив, но на пороге смерти. Остановившись, Эспирикуэта с удивлением осматривал все еще живого Франсиско Моралеса. …этот момент, как и эта земля, целиком принадлежал только ему» (с. 427).
Пространные выдержки из романа дают объемное представление о драматических событиях мексиканской истории. Перед нами — глубокое произведение, показывающее выпуклую картину революции. С одной стороны, революционный процесс представлен глазами собственников, владельцев земли и имущества, показана их трагедия. А с другой — батраки, безземельные крестьяне, у которых была своя правда; они испытывали классовую ненависть, считая, что настало их вре- мя — время, когда они смогут забрать себе то, что принадлежит им по праву, — все это тоже трагично. И в результате — и убивший своего хозяина батрак, и его ни в чем не повинный сын тоже погибают.
Приведем описание крестьян, взявшихся за оружие в стремлении получить землю; они — по-своему тоже жертвы, жертвы драматических социальных сдвигов: «Франсиско взглянул на жалкий отряд, преградивший им путь, и ему даже в голову не пришло, что его жизни угрожает опасность, что перед ним утратившие надежду, преисполненные отчаяния существа, готовые убить за глоток воды. Отряд выглядел потрепанным, все были припорошены сухой бесплодной землей, скулы выпирали, смуглая кожа посерела, губы растрескались от жажды и покрылись беловатым налетом, вытаращенные глаза смотрели с тоской и отчаянием. Для Франсиско они выглядели хуже, чем жалкие оборванцы. Они показались ему такими несчастными, что при виде построенной ими лачуги ему и в голову не пришло, что речь идет о вторжении и попытке захвата его земли» (с. 148-149).
Нам, сегодняшним жителям России, очень понятен такой многофакторный подход автора. Не наша тема сейчас — рассуждать об Октябрьской революции 1917 г., но ведь и вокруг нее не умолкают споры и ломаются «идеологические» и «моральные» копья. Можно сказать лишь одно: тектонические социальные сдвиги, вызванные революциями, трагичны по самой своей природе. Да, по прошествии времени они дают эффект, в результате появляются и бенефициары, и проигравшие. Но период свершения революций всегда полон трагизма и подпитываемой непримиримостью и непреклонностью обеих сторон жестокости, порожденными, в свою очередь, теми историческими обстоятельствами, в которых они «произрастают».
И мы, живущие сегодня, обладая тем знанием, которым не владели раньше, можем пусть и не принять правду какой-либо из сторон (у всех разные точки зрения), но — понять драматизм судеб отдельных людей на фоне крупных исторических катаклизмов.
Яркий роман «Пение пчел» талантливого автора Софии Сеговии по праву получил почетное звание «литературное открытие года». «Читайте и перечитывайте классику» — так всякий раз обращается к зрителю Игорь Волгин в конце очередного выпуска своей телепрограммы «Игра в бисер». Перефразируя этот замечательный призыв, скажу: прочитайте роман «Пение пчел»; он заставляет думать и по-новому высвечивает то, что казалось давно «пройденным» и понятным.
Библиография
- 1. Альперович М.С., Руденко Б.Т. Мексиканская революция 1910-1917 гг. в политике США. М.: Наука, 1958.
- 2. Очерки новой и новейшей истории Мексики. М.: Наука. – 1960.
- 3. Шульговский А.Ф. Мексика на крутом повороте своей истории. М.: Наука, 1968.
- 4. Лавров Н.М. Мексиканская революция 1910-1917 гг. М.: Наука, 1972.
- 5. Соколов А.А. Рабочее движение Мексики (1917-1929). М.: Наука, 1978.
- 6. История Латинской Америки. Доколумбова эпоха – 70-е годы XIX века. М.: Наука, 1991.
- 7. О кардинальных периодах мексиканской модели исторического развития, в том числе особенностях революции 1910–1917 гг. см.: Окунева Л.С. Двухсотлетие начала Войны за независимость и столетие Революции 1910 г. в Мексике. Новая и новейшая история. М., 2011, № 1, с. 42-51.
- 8. Buvé R. Introducción. La Revolución Mexicana en el oriente de México (1906-1940). Coords. Raymond Buvé, Heather Fowler-Salamini. – Asociación de Historiadores Latino-americanistas Europeos (AHILA)–Iberoamericana–Vervuert–Bonilla Artigas, Madrid-Frankfurt a/Main, 2010, 238 p.
- 9. Новая краткая история Мексики. Пер. с исп. М.: Весь Мир, 2018, 352 с.