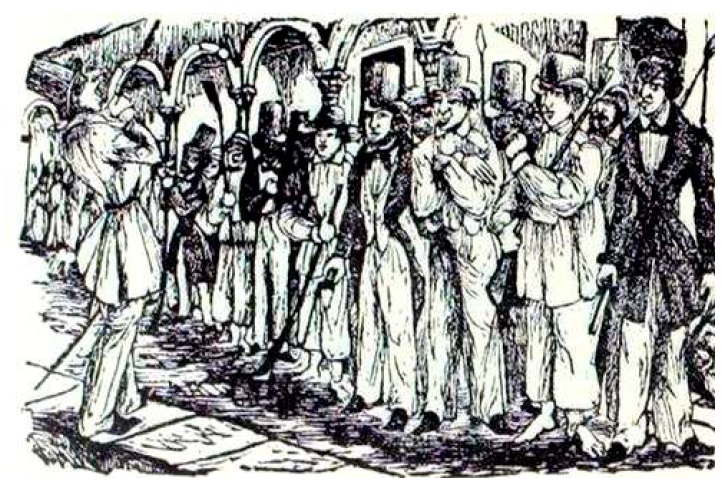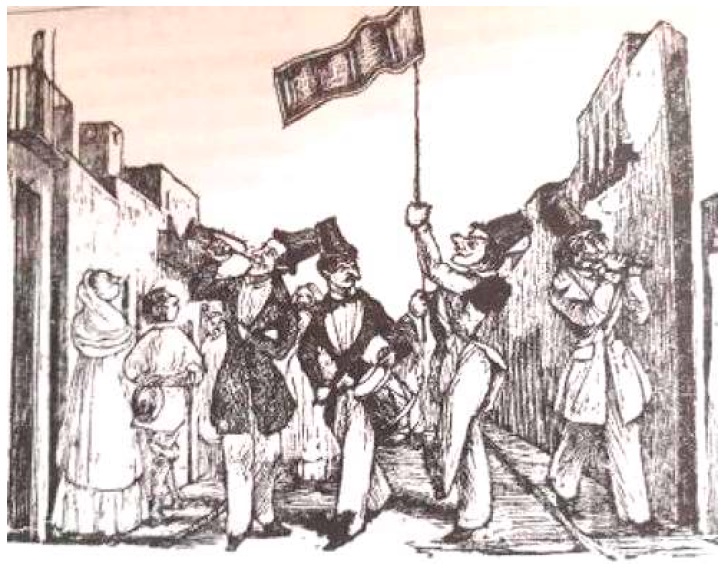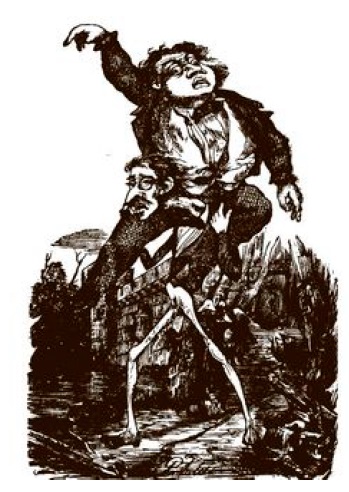- Код статьи
- S0044748X0026863-8-1
- DOI
- 10.31857/S0044748X0026864-9
- Тип публикации
- Статья
- Статус публикации
- Опубликовано
- Авторы
- Том/ Выпуск
- Том / Выпуск № 8
- Страницы
- 67-82
- Аннотация
Статья посвящена вопросу финансового обеспечения вооруженных сил в Латинской Америке на примере тех трудностей, с которыми столкнулось правительство штата Юкатан в первые годы Войны каст (1847—1901 гг.) — одного из крупнейших и наиболее продолжительных социально-этнических конфликтов в истории Латинской Америки XIX в. — и решений, к которым было вынужденно прибегнуть общество, находившееся на этапе перехода от традиционной стадии к модерну.
- Ключевые слова
- Мексика, Юкатан, Война каст, экономическая история
- Дата публикации
- 24.08.2023
- Год выхода
- 2023
- Всего подписок
- 13
- Всего просмотров
- 260
ВВЕДЕНИЕ. ТРОПИЧЕСКИЙ ШТОРМ
Существует крылатое выражение, приписываемое маршалу Джан Джакомо Тривульцио, ответившему Людовику XII (1498—1515 гг.) на вопрос о том, какие приготовления требуются для завоевания Миланского герцогства, следующими словами: «Для войны нужны три вещи: деньги, деньги и еще раз деньги». Новый Свет не был исключением из этого правила. Каждая масштабная война в регионе, начиная с Войны за независимость (1808—1826 гг.), вынуждала все противоборствующие стороны прибегать к разным способам получения денег на содержание армий и обеспечение сопутствующих расходов [1, p.106; 2, p.148]. Резкий рост численности вооруженных сил в результате появления новых военных доктрин на рубеже XVIII—XIX вв., приведших к возникновению еще более, чем прежде, массовых армий, подкреплявшихся мобилизационными структурами гражданских ополчений, поднял финансовые потребности войны на новый уровень [3, p. 8; 4, p. 315; 5, p. 455; 6, p. 252].
Юкатан середины XIX в. — один из беднейших на тот момент штатов Мексики — столкнулся с проблемой финансирования вооруженных сил в 1847 г. после начала масштабного индейского крестьянского восстания на юго-востоке полуострова — Войны каст на Юкатане (1847—1901 гг.). Это восстание, быстро разросшееся до беспрецедентных масштабов, вызвало столь же беспрецедентные меры со стороны правительства. В 1848— 1851 гг. в штате фактически действовал режим всеобщей мобилизации: на август 1850 г. в рядах Национальной гвардии штата и вспомогательных индейских подразделениях числилось 26 тыс. человек, что составляло более 5% от населявших полуостров 500 тыс. [7, p. 117].
Жалования солдат и офицеров, пенсии по инвалидности по потере кормильца, а также различные компенсации быстро превратились в «черную дыру» в бюджете штата и вызвали необходимость введения чрезвычайных мер в налогообложении и использования государственным аппаратом различных ухищрений для того, чтобы избежать оплаты наличными деньгами услуг, предоставленных вооруженным силам частными лицами. В данной статье будет представлен анализ того, к каким средствам прибегало правительство Юкатана для покрытия военных расходов, какие новые финансовые практики оно пыталось ввести и к каким хорошо забытым старым было вынуждено возвращаться в самый острый период конфликта — в 1847—1851 гг.
Прежде чем перейти непосредственно к рассмотрению финансовых практик, применявшихся в ходе Войны каст, следует вспомнить, что Юкатан фактически находился в состоянии войны с 1839 г., когда началось восстание Сантьяго Имана в Тисимине — первый крупный гражданский конфликт на полуострове, вызванный приходом к власти в Мексике централистов и последовавшим за этим наступлением на автономию регионов. Федералистское восстание положило начало череде внутренних конфликтов между ключевыми городскими центрами штата (в рассматриваемый период штат Юкатан включал в себя территории современных штатов Юкатан, Кампече и Кинтана-Роо), Меридой и Кампече, а также столкновениям с Мексикой 1840—1842 гг., закончившимися сецессией Юкатана. После начала войны между Мексикой и США в 1846 г. Юкатан объявил о нейтралитете и de facto вновь стал независимым государством. Бурные 1840-е годы завершились началом Войны каст, и к этому времени в результате политической нестабильности финансовая ситуация на полуострове существенно ухудшилась.
Стоит отметить, что тема финансирования юкатанских вооруженных сил в начальный период Войны каст слабо освещена в работах по региональной истории Мексики в целом и истории Юкатанской войны в частности. До недавнего времени авторы работ по Войне каст делали упор на создании более [8] или менее [9] научного нарратива данного конфликта, в то время как отдельные проблемы экономической, социальной или институциональной истории отходили на второй план. Экономическая история Юкатана начинает привлекать внимание ученых в связи с «энекеновым бумом» последней четверти XIX в.1, в то время как более ранние периоды остаются малоисследованными.
Заслуживает особого внимания фундаментальная на данный момент работа по Войне каст Терри Рагли [10, рp. 92-99], в которой была предпринята попытка конкретизировать, в том числе, вопросы финансирования вооруженных сил и связанные с этим социально-экономические проблемы. Однако детального исследования этого вопроса в рамках подхода экономической и региональной истории до сих пор не появилась. В данной статье предпринимается попытка закрыть эту лакуну путем анализа эволюции налоговой системы Юкатана в контексте традиционных и новых концепций налогообложения как на полуострове, так и в ибероамериканском мире в целом. Источниковую базу статьи составили неопубликованные документы из архивов Мексики (Archivo General de la Nación, Archivo Histórico de la Secretaría de Defensa Nacional, Archivo General del Estado de Yucatán), опубликованные в XIX в. сборники законодательных актов и постановлений, а также юкатанская периодика рассматриваемого периода.
ОТКУДА ДЕНЬГИ?
В отсутствие ресурсной ренты или сильного класса предпринимателей основным источником доходов для юкатанской казны были прямые налоги, в первую очередь подушный налог (contribución personal), косвенные налоги с торговых операций (alcabalas) и таможенные сборы (derechos de aduana). Собираемость всех этих налогов в силу неразвитости государственного аппарата оставляла желать лучшего, но скоротечные гражданские конфликты до начала Войны каст, в которых непосредственно были задействованы ограниченные воинские контингенты, не являлись особым бременем для бюджета, хотя и имели существенные косвенные последствия (нарушение хозяйственной деятельности, мародерство, реквизиции и т. д.) Дестабилизация финансовой ситуации происходила из-за того, что сменявшие друг друга правительства штата, пытаясь привлечь на свою сторону те или иные группы населения, постоянно меняли размер подушной подати или совсем отменяли ее для определенных категорий лиц [11, pр. 222-224].
На начало войны в штате Юкатан действовали следующие тарифы налогообложения2:
— согласно закону от 8 декабря 1846 г., каждый житель Юкатана, начиная с 16-летнего возраста, был обязан платить подушную подать в размере 1,5 реала в месяц [12, p. 91];
— «собственники и капиталисты» (los propietarios y capitalistas) были обязаны выплачивать 5 сентаво с каждых 100 песо задекларированного капитала или оценочной стоимости недвижимости (оценку капитала и стоимости имущества должна была производить специальная комиссия) [13, p. 246];
— косвенные налоги: налог на сделки (alcabala de contratos), акциз на забой скота (alcabala de carnes), гербовый сбор и др. [13, p. 246];
— таможенные сборы (морские таможни Кампече, Сисаля, Кармен и Бакалара).
В декрете от 30 ноября 1841 г. юкатанские законодатели довольно подробно определили размер таможенных сборов по различным товарным позициям, ставка колебалась от ½ реала до 2 песо [12, pр. 147-154]. В 1845 г. фиксированные ставки по товарным позициям были заменены прогрессивной процентной пошлиной, колебавшейся от 2 до 55% [13, pр. 440-476].
После восстания в Тепиче 30 июля 1847 г., положившего начало Войне каст, потребовалось почти полгода для того, чтобы юкатанские элиты осознали всю тяжесть ситуации, сложившейся на юго-востоке полуострова. Лишь 30 декабря 1847 г., когда повстанцы были уже на подступах к крупнейшему городу восточного Юкатана, Вальядолиду, юкатанский конгресс объявил о вводе «на шесть месяцев» первого военного налога «в силу неотложнейшей необходимости обеспечить правительство чрезвычайными средствами» [12, p. 166]. Взнос с капиталов, жалований и доходов от профессиональной деятельности (сontribución sobre capitales, sueldos y profesiones) устанавливал ежемесячный дополнительный налог на капиталы в размере 4 реалов (50 сентаво) с каждых 100 песо и 10% со всех видов дохода, не превышающего 30 песо в месяц. В случае, если доход был выше 30 песо, ставка налога вырастала до 30%, при условии, что разница после вычета налога составит не меньше 30 песо. В одной из статей декрета указывалась, что если лицо, не имеющее официального дохода или собственности, ведет образ жизни, не соответствующий его формальной бедности, то специальный совет должен был определить сумму, необходимую на ведение «красивой жизни», и, исходя из этого, рассчитать положенный налог. Служащие линейных юкатанских частей и ополчения, участвовавшие в боевых действиях, от налога освобождались.
Габриэль Висента Гаона. «Ополчение», 1847 г.
Уже 26 февраля 1848 г., вскоре после объявления в штате всеобщей мобилизации неиндейского населения, был опубликован губернаторский декрет, объявлявший о прогрессивном повышении налога на капиталы [14, p. 191]. Отныне базовая ставка в 4 реала со 100 песо применялась только в случаях, если стоимость задекларированного имущества не превышала 2 500 песо. Для капиталов от 2 500 до 5 000 песо ставка вырастала до 8 реалов, а для капиталов свыше 5 тыс. — до 16. Таким образом, правительство предприняло попытку переложить большую часть налогового бремени на наиболее обеспеченную часть общества.
Практически параллельно с декретом о введении прогрессивного сбора с капиталов правительство прибегло к довольно резкой мере: декретом от 1 марта был фактически легализован военный грабеж территорий, отбитых у повстанцев [14, p. 195]. Войскам и иным лицам дозволялось присваивать любое движимое имущество при освобождении от восставших любого поселения, а также любое движимое имущество в поселениях, еще не занятых повстанцами, но уже покинутых жителями. Захваченное таким образом имущество делилось пополам: одна половина отходила в казну, вто- рая — тем, кто захватывал добычу.
Довольно быстро выяснилось, что владельцев капиталов, желающих платить по 2% от стоимости своих активов и пассивов, не очень много. Более того, у многих просто не оказалось наличных денег для удовлетворения требований правительства. Уже 26 марта правительство установило единый налог на капитал в размере 1%, что, с одной стороны, снизило налоговую нагрузку на владельцев капиталов свыше 5 тыс. песо, с другой — повысило ее вдвое для владельцев капиталов ниже 2 500 песо [14, p. 195]. Для решения проблемы дефицита наличности было решено принимать для уплаты половины налога необходимые для действующей армии товары по фиксированным ценам: маис, фасоль, сушеное мясо, мыло, ткани, свинец и т.п.
Габриэль Висента Гаона. «Патриоты», 1847 г.
На протяжении первой половины 1848 г. дважды появляются декреты, регламентирующие «улучшение» сбора налога на капитал, что вероятно свидетельствует о том, что далеко не все, формально обязанные его платить, стремились это делать [12, pр. 207, 213]. В декрете от 27 июня о продлении этого «временного» налога также имеется явное указание на обострение монетного дефицита — к уплате уже принимались «прочие подходящие и необходимые по мнению правительства [товары]» [12, p. 215].
10 октября был опубликован декрет, вносивший поправки в декрет от 1 марта, легализующий реализацию военных трофеев [12, p. 235]. Но оказалось, что пункт о том, что «любые иные лица» могут участвовать в присвоении захваченного у повстанцев имущества, привел к случаям массового мародерства и беспорядкам в освобожденных поселениях. Согласно положениям нового декрета, право на получение доли добычи имели только военнослужащие, причем не напрямую, а после продажи трофеев на публичном аукционе. Как и в декрете от 1 марта, половина дохода от продажи отходила военнослужащим, однако вторая часть, хотя и формально принадлежащая государству, должна была быть немедленно передана в отдел обеспечения (proveeduría) соответствующего подразделения.
К ноябрю 1848 г. ситуация с собираемостью налога на капиталы, по-видимому, стала критичной. 16 ноября правительство издало декрет, в соответствии с которым, помимо очередного продления «временного налога», ставка этого налога снижалась до 3 реалов со 100 песо, а в качестве уплаты натурой уже принимались любые необходимые войскам товары, причем цена на них определялась не государством, а самими налогоплательщиками [12, p. 241].
В конце ноября в декрете от 28 числа правительство попыталось систематизировать законы о чрезвычайном налогообложении и чрезвычайных формах оплаты этих налогов [12, p. 243]. Расчет налогов с жалования и прочих доходов, установленный 30 декабря прошлого года, менялся на упрощенную схему: 3 песо 6 реалов с доходов ниже 100 песо и 11 песо 2 реала начиная со 100 песо. За год войны государство и общество накопили друг перед другом достаточно много долгов: далеко не все могли платить военные налоги, а государство не всегда могло расплатиться за предоставленные армии услуги, в первую очередь за помещения для постоя и продовольствие (домашний скот), за которые командиры подразделений выписывали расписки (vales). Правительство предложило обществу взаимозачет: все расписки за постой, выданные до сентября 1849 г., будут приниматься для оплаты фискальных задолженностей за сентябрь. Расписками за скот можно было заплатить до половины долга, а, начиная с 16 ноября, все расписки за постой и скот принимались для оплаты половины установленного налога. Появление альтернативных платежных средств, по всей видимости, привело к спекуляциям, поэтому тот же декрет устанавливал штраф в 25 песо для лиц, которые попытаются реализовать расписки, не будучи их непосредственными получателями. 20 декабря правительство приняло дополнительную меру, способствовавшую пополнению бюджета: ввело налог на винокурни. Налог варьировался в зависимости от производительности дистиллятора — от 70 до 210 песо [12, p. 244].
Стабилизация военно-политической ситуации на полуострове в 1849 г. способствовала тому, что налоговое законодательство практически не менялось. Лишь 5 декабря был издан очередной декрет, повышавший налоговую нагрузку на капиталы [12, p. 298]. К предыдущим взносам с задекларированной стоимости капитала прибавлялся налог на годовой доход с капитала в размере 10%. До четверти суммы можно было уплатить любыми военными расписками, причем под фразой «прямыми или косвенными» (directos ó indirectos), по-видимому, подразумевалась частичная легализация оборота этих бумаг и их реализация не только оригинальными держателями. 30 сентября 1850 г. ставка налога на доход с капитала была повышена до 15% [12, p. 471].
В конце года законодатели также обращаются к низовой налогооблагаемой базе. Как можно заметить, все предыдущие законы, касавшиеся военных налогов, затрагивали преимущественно малообеспеченных людей — владельцев недвижимого имущества и капиталов или лиц, приносивших существенный доход своей деятельностью. Большинство населения полуострова — крестьяне и батраки — «долг перед родиной» выплачивали собственной службой в рядах Национальной гвардии, занимавшейся подавлением восстания. Однако, несмотря на огромное количество мобилизованных, оставалось довольно много потенциальных налогоплательщиков, по той или иной причине освобожденных от военной службы, прежде всего индейцев.
Габриэль Висента Гаона. «Да здравствуют правительство и народ, что носит его на плечах!», 1847 г.
В этот момент можно наблюдать переход от «прогрессивных» практик налогообложения, представленных contribución personal, к проверенным испанским практиками создания налоговых «бутылочных горлышек». Сбор подушного налога требовал наличия большого количества профессиональных чиновников и сознательности налогоплательщиков. Ни тем, ни другим Юкатан в 1849 г. похвастаться не мог. Выходом из ситуации было возвращение к акценту на косвенные налоги. 7 декабря 1849 г. было объявлено об отмене подушного налога с 1 января 1850 г. [12, p. 302], но буквально через четыре дня в жизнь полуострова возвращается старый испанских налог с продаж — алькабала. Согласно декрету от 11 декабря с каждой головы забитого крупного рогатого скота должны уплачиваться 8 реалов, а с каждой свиной головы — 4 реала [9, p. 303]. Помимо прочего декрет постановлял, что забой скота возможен только на общественном рынке после уплаты алькабалы в обмен на соответствующее разрешение.
Еще одним проявлением возврата к традиционным испанским практикам налогообложения стал откуп сбора налогов с винокурен и алькабалы частным лицам. Уже 15 ноября 1849 г. было объявлено о выставлении на торги права сбора налогов с винокурен [12, p. 287]. Покупатель получал право на сбор налога на срок до двух лет. Почти через год, 21 октября 1850 г., на торги была выставлена и алькабала на забой скота. Откуп действовал в течение года, а сумма, которую должен был уплатить покупатель, должна была быть не менее «наивысших показателей за последние два триместра» [12, p. 495].
Однако сохранялась и практика индивидуального налогообложения. Еще одним всеобщим налогом стал capitación — ежемесячный налог, взымавшийся с лиц, освобожденных от службы в Национальной гвардии с 1 ноября 1850 г. Ставка налога варьировалась в зависимости от стоимости имущества или ежемесячного дохода плательщика и составляла от одного до шести реалов в месяц [12, p. 510]. Дополнительный налог на освобожденных от службы вводился в законе от 27 февраля 1851 г., обязывавшего каждого жителя Юкатана зачислиться в запас Национальной гвардии [14, p. 22]. Ставка налога также была прогрессивной и зависела от суммы, плавившейся в рамках capi-tación. Если гражданин платил от одного до трех реалов capitación, то на каждый реал он был обязан платить 4 реала за освобождение от службы. Если сумма capitación превышала 3 реала, то освобожденный должен был платить по 1 песо за каждый реал capitación. В соответствии с дополнительным приказом губернатора от 14 апреля ставка налога для наемных работников асьенд была снижена до 2 реалов [14, p. 61].
Габриэль Висента Гаона. «Неприкаянные», 1847 г.
Почти сразу после введения внушительного налога, который получил название cuota de Guardia Nacional, стало очевидно, что эффективного взимать его невозможно. 16 декабря 1851 г. ставка была существенно снижена. «Собственникам и капиталистам» предписывалось платить по 3 реала с каждого реала capitación, наемным работникам — от 1 до 3 реалов в месяц; «пролетариат и батраки» от этого налога были освобождены [14, p. 78]. В итоге cuota стала основным налогом, который платили жители Юкатана на обеспечение военных нужд. В результате реформы Национальной гвардии генерала Ромуло Диаса де ла Веги личный состав боевых подразделений сократился более чем в три раза, а количество резервистов, возвращавшихся к обычной жизни и обязанных платить военные налоги, соответственно возросло.
Однако налоги с жителей штата были не единственными источниками средств, которые правительство Юкатана могло использовать для ведения войны. Более того, оно вообще не хотело тратить эти деньги на обеспечение армии, за исключением тех налогов, что непосредственно взымались с резервистов Национальной гвардии, не участвовавших в боевых действиях. Юридическая тонкость, к которой обращалось правительство штата, чтобы снять с себя обязательства по финансированию боевых действий, содержалась в ст. 42 Федерального Органического закона о Национальной гвардии, согласно которому, расходы по содержанию военнослужащих «за пределами их места жительства несущих службу по охране или обороне населенных пунктов или точек, представляющих военный интерес», несло федеральное правительство [15, p. 13]. Кроме того, в случае участия в боевых действиях, подразделения национальной гвардии подчинялись главнокомандующему штата, назначенному военным министерством.
Юкатанское правительство, тем не менее, не гнушалось и тем, чтобы выпрашивать деньги. Официальные представители штата Хоакин Гарсия Рехон и Педро Рехиль и Эстрада, прибывшие в Мехико почти сразу после окончания войны с США, довольно удачно «продали» Мексике фактическую независимость Юкатана. Федеральное правительство издало декрет о единовременной выплате 150 тыс. песо в пользу Юкатана плюс ежемесячные транши в 15 тыс. песо на военные нужды [16, f. 7v]. После потери половины национальной территории в пользу США по договору Гвадалупе—Идальго и ввиду активных попыток Юкатана продать свой суверенитет всем желающим, правительству Мексики не оставалось ничего, кроме как выразить «братские чувства и симпатию, которую верховное национальное правительство испытывает к Юкатану». 8 января 1850 г. военное министерство уточнило, что сумма ежемесячной военной помощи Юкатану составляет 16 тыс. песо в месяц, которые должны передаваться в Генеральный комиссариат штата (орган, ответственный за снабжение подразделений) [17, f. 321d]. Однако уже в сентябре того же года главнокомандующий штата жаловался в письме военному министру, что Юкатан полгода не получал никакого финансирования от Мехико [18, f. 57v]. Жалобы на недостаток средств повторяются и в письме от 21 февраля 1851 г. [19, f. 10-11].
Нельзя не упомянуть главный источник экстренных средств, к которому обращалось еще королевское правительство Новой Испании, не говоря уже о республиканских правительствах независимой Мексики — национализацию церковного имущества. 15 февраля 1848 г. губернатор издал декрет о том, что все ценное имущество юкатанских церквей должно быть передано правительству, «чтобы по возможности избавить их от влияния варварской войны, объявленной индейцами» [12, p. 180]. Благородные намерения прикрывали весьма прозаические действия. Драгоценности, накопленные церковью за три века деятельности на Юкатане, быстро оказались в Гаване, где были заложены на общую сумму 51 390 песо ½ реала. Разумеется, «для покрытия неотложных потребностей Войны каст». Хотя правительство взяло на себя обязательство возместить церкви заложенные ценности, согласно декрету от 28 октября 1850 г. необходимо было сдать епископу Юкатана все драгоценности, оставшиеся в распоряжении приходов [12, p. 505].
К 1850 г. формально сложились многосторонняя система финансирования вооруженных сил, в основе которой лежали прямые и косвенные налоги, взимавшиеся с населения штата, а также формальная процедура реализации военных трофеев. Все это дало армии возможность содержать себя самостоятельно. Ключевыми вопросами данной темы являются вопросы о том, куда должны были идти собранные средства, и как система работала на практике.
ЖЕЛАНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ
Теоретически главной статьей расходов было жалование служащих Национальной гвардии. В соответствии с декретом от 16 января 1848 г. для солдат, участвовавших в боевых действиях, устанавливались следующие суммы жалования: рядовым — 1,5 реала в день, капралам — 2 реала, сержанту второй статьи — 2,5 реала и сержанту первой статьи — 3 реала [12, p. 178]. К первоочередным расходам также были отнесены пенсии семьям всех военнослужащих. Офицерский состав получал жалование только при условии того, что после выплаты жалований и пенсий в бюджете оставались средства. Несложная калькуляция дает месячное жалование в 45 реалов или 5 песо 4 реала на рядового. Весьма скромная сумма по меркам того времени, тем не менее, масштабированная на 11 тыс. человек личного состава, давала 61 875 песо в месяц. Разумеется, не все из этих 11 тыс. человек были рядовыми, поэтому реальная сумма должна была быть намного больше.
К сожалению, исследователю доступно весьма ограниченное количество документов, проливающих свет на реальное положение дел в финансировании вооруженных сил. Практически сразу после ввода налога с капиталов в генеральное казначейство пошел поток документов с мест, содержащий жалобы на сложности его сбора. В первую очередь речь шла о тех областях, которые в 1848 г. находились под угрозой вторжения повстанцев.
Исамаль, находившийся непродолжительное время (в первые месяцы 1848 г.) практически на переднем крае сопротивления восставшим индейцам, можно считать практически хрестоматийным примером сложившейся ситуации. Благодаря руководителю окружного налогового ведомства (subdelegado) и его пространному посланию генеральному казначею, можно довольно подробно реконструировать происходившие в те месяцы события [20, f. s/n]3. Сбор налогов стал практически невозможен: самые богатые жители округа поспешили эмигрировать; те, кто не смог эмигрировать, защищали свои поселения и асьенды с оружием в руках, а местные индейцы, оказывавшие помощь в строительстве укреплений и расчистке периметра гарнизонов, по мнению субделегадо, были достойны освобождения от налогов. Возможно, собирать налоги с последних он считал просто опасным. Он предложил без ограничений принимать у индейцев расписки за постой и провиант в качестве средства для оплаты военных налогов.
Обращает на себя внимание изысканная наглость чиновника: он открыто требует снять с него всякую ответственность за недоимки и отсутствие отчетной документации: «Что же делать с этим конфликтом? Я понимаю, что должен ограничиться сбором того, что возможно, принимая во внимание суровость обстоятельств, но для этого я полагаю справедливым, чтобы вышестоящее руководство освободило меня от какой-либо ответственности, а также от обязанности предоставлять отчетность с должной точностью и оформлением, поскольку в лабиринте забот, что окружает в настоящий момент сию администрацию, налоговому ведомству не представляется возможным исполнять свои обязанности надлежащим образом».
К сожалению, имени этого мастера бюрократического слова в архиве штата Юкатан не сохранилось. Кроме того, автор пишет, что он потерял контроль над подчинявшимися ему сборщиками налогов: они либо отсутствуют, либо «заняты в гарнизонах», либо «установить их местонахождение не представляется возможным»4. По-видимому, командиры отдельных подразделений удерживали сборщиков налогов при себе, чтобы иметь под рукой постоянный источник средств и лицо, способное формально оформить их получение.
Практически сразу после введения налога на капиталы и имущество, который был весьма болезненным для пострадавшего от череды конфликтов предпринимательского слоя Юкатана, появляются свидетельства того, что обеспеченные люди стали пытаться выглядеть в глазах казначейства менее обеспеченными. Поскольку ставка налога рассчитывалась из оценки имущества, зачастую проводившейся еще в 1842—1844-х годах, налогоплательщики начали просить провести переоценку [20, f. s/n]. Была ли переоценка вызвана объективными последствиями войны или же это была попытка снизить ставку налогообложения — сказать трудно.
Еще одной больной темой была оценка услуг, предоставленных частными лицами Национальной гвардии. В июле 1848 г. генеральный секретарь правительства направил военно-морскому министру (Юкатан еще был формально независим от Мексики) коллективную жалобу землевладельцев, в которой политика снабжения войск подверглась критике за то, что скот по асьендам, ранчо и деревням изымался безо всяких попыток равномерно распределить реквизиции по округу; тыловики, ответственные за обеспечение подразделений, выписывали расписки на суммы, существенно занижавшие стоимость изъятого скота. Решение проблемы было предложено довольно наивное: производить закупку в присутствии двух оценщиков: одного — со стороны собственника, второго — со стороны подразделения [21, f. s/n].
Важно подчеркнуть, что подразделения Национальной гвардии потребляли довольно много. Гарнизон городка Уман недалеко от Мериды за июль 1848 г. потратил на снабжение 332 песо. На них было закуплено 47 голов скота и 296 нош (1 ноша = 42 кг) маиса у 18 разных поставщиков [22, f. s/n]. В апреле 1848 г. неизвестный офицер передал генеральному казначею довольно угрожающее письмо, в котором потребовал 500 песо для снабжения подразделения в 300 пехотинцев и 50 кавалеристов, отправлявшегося на передовую [23, f. s/n]. К сожалению, бюджет этого предприятия, хотя и упомянут в документе, не сохранился в архиве, поэтому сложно сказать, на какой период времени были рассчитаны эти 500 песо. Еще одна роспись, из уже упомянутого Исамаля, дает подробную картину ежедневных потребностей местного гарнизона в продовольствии. В день гарнизону требовалось натурой 40 нош маиса, 4 ноши фасоли, 4 арробы (1 арроба = 11 кг) галет, 28 арроб говядины, 8 арроб свинины, 4 арробы сала, 8 альмудов (1 альмуд = 7 кг) риса и 5 альмудов чили. Кроме того, на снабжение госпиталя, закупку зелени и свинины требовалось 16 песо 1 реал наличными [24, f. s/n]. Численность личного состава, к сожалению, осталась неизвестной.
Помимо еды и жалования подразделения еще требовалось снабжать боеприпасами, но в этом отношении источники практически немы. Государство сразу ввело монополию на порох, свинец и бумагу, пригодную для изготовления патронов, и запретило вывоз этих товаров с полуострова [12, p. 183]. Однократно упоминается случай, когда предпринимателю было дозволено уплатить свои налоги имевшимися у него запасами свинца [25, f. s/n]. В принципе вопрос обеспечения боеприпасами крайне редко поднимается в документах как острый, в то время как положение с жалованием, провиантом и, начиная с 1849 г., обмундированием становится причиной постоянных жалоб.
Из-за отсутствия полноценных бюджетных документов по Юкатану, относящихся к рассматриваемому периоду, представляется затруднительным определить, какие суммы закладывались правительством на снабжение вооруженных сил, и выделить динамику бюджетного планирования. В проекте бюджета на 1851 г., принятом 1 ноября 1850 г., когда на Юкатане еще не знали о грядущей реформе, связанной с назначением нового командующего военным округом, из общих расходов в 195 119 песо на вооруженные силы было заложено 42 000 песо, на покрытие задолженности по пенсиям и выплату текущих расходов — 58 639 песо [12, pр. 517-527].
Стоит напомнить, что Юкатан продал свой суверенитет Мексике в обмен на обещание разовой выплаты в 150 тыс. песо плюс ежемесячные выплаты в 16 тыс. Можно сказать, что этих денег правительство штата так и не увидело. Из разовой выплаты в 150 тыс. Юкатан 12 августа 1848 г. получил лишь 30 тыс. Из них 10 тыс. ушло на покрытие долгов штата, а оставшиеся 20 тыс. были показательно потрачены на продовольственное обеспечение войск и социальное обеспечение семей военнослужащих [26, p. 1]. Что касается ежемесячных выплат, то за 1848—1850 гг. правительство Юкатана получило всего две: 23 апреля 1849 г. и 11 марта 1850 г. Причем из первого транша до Мериды дошло всего 2 949 песо векселями, а остальное было немедленно потрачено в Сисале на оплату продовольствия, пришедшего из Нового Орлеана [27, p. 1]. Мартовский транш 1850 г. также был очень быстро потрачен на оплату долгов поставщикам [28, p. 1]. Лишь 5 280 из 16 тыс. получили действующие войска (2 000) и семьи военнослужащих (3 280).
Если бы мексиканское правительство могло регулярно начислять обещанные 16 тыс. песо в месяц, то этих денег с лихвой хватило бы на покрытие запланированных военных и социальных расходов, которые, согласно проекту бюджета на 1851 г., составляли 100 639. Однако насколько реалистичными были бюджетные планы? Согласно отчету казначейства за июнь 1849 г. [29, f.s/n], доходы штата за месяц составили 87 552 песо, из которых необходимо вычесть 15 тыс., записанных по статье suplementos a la hacienda, т.е. оценочную сумму товаров, полученных от граждан в счет уплаты налогов. Реальная эффективность военных налогов была очень низкой: налог на капиталы — основной на тот момент военный сбор — дал казне всего 1 341 песо 84 сентаво. Для сравнения: генеральный комиссариат военного округа (отдел тылового обеспечения) передал в казначейство 24 698 песо. Источник этих средств найти не удалось, но вероятно, речь идет о доходах от реализации трофеев. По чисто военным статьям (обеспечение подразделений плюс пенсии военнослужащих, всего 14 статей) сумма расходов достигла 34 989,50 песо. 12 529 песо было потрачено на погашение задолженности за товары, предоставленные частными лицами, 14 084 на закупку маиса, 4 867 на закупку прочих продуктов питания и 1 340 на денежное довольствие госпиталей. Поскольку государственные закупки продовольствия предназначались в первую очередь для обеспечения вооруженных сил и социальные расходы, эти суммы логично прибавить к непосредственно военным статьям. Итого: расходы на вооруженные силы и сопутствующее социальное обеспечение за июнь 1849 г. составили 67 809 песо, что существенно превысило суммы, выделяемые федеральным правительством, и составило больше половины всех запланированных на год военных расходов. При общих месячных расходах бюджета в 87 522,36 песо можно заключить, что на военные расходы уходило почти 77,5%.
В июле 1849 г. наблюдается значительный рост собираемости чрезвычайных налогов — 14 519,39 песо при некотором снижении доходов от трофеев — 16 753,18. Общие военные расходы составили 52 924,08 или 61% [29, f. s/n]. Нестабильность бюджета явно видна на примере отчета за январь 1851 г., накануне начала реформы Национальной гвардии. Связанные с войной доходы составили всего 2 461,04 от общих в 17 060,60, в то время как расходы — 7 362,16 от общих 17 054,45 или 43% [30, f. s/n]. Объясняется ли такое падение доходов общим упадком экономики штата, ситуация в которой, по свидетельствам современников, была критической, или же это была сезонная флуктуация — установить невозможно.
На основе анализа бюджетной документации можно заключить, что идея покрытия военных расходов чрезвычайными налогами себя не оправдала. Слишком тяжелый удар нанесла война по экономике штата, слишком много потенциальных налогоплательщиков были мобилизованы в ряды вооруженных сил, еще больше — эмигрировали.
Традиционные для испанского мира системы налогообложения, различные виды алькабалы и ее откупа, монополии, таможенные доходы и т.п. дали штату в июне 1849 г. 11 438,82 песо, в июле —13 897,62, в январе 1851 г. — 5 923,59. Обращает на себя внимание резкий рост уровня невоенных доходов относительно их общей суммы, в первую очередь алькабалы на мясные продукты (даже в абсолютных цифрах), что явно свидетельствует о том, что хозяйственная жизнь на полуострове после образования позиционного тупика к концу 1849 г. начала налаживаться. Если таможенные сборы были подвержены влиянию сезонных изменений и покупательной способности населения, то потребление мяса при прочих равных зависело только от безопасности пастбищ и количества потребителей.
Последний способ, с помощью которого война на Юкатане могла «кормить себя сама», было легализованное мародерство. В отчетах о военных операциях за 1848—1851 гг. трофеи (botín) встречаются регулярно. В основном речь идет о том немногом движимом имуществе, которым могли располагать индейские повстанцы, — домашних животных. Любопытно, что в отчетах нет упоминаний о скоте. Можно лишь предположить, что у повстанцев либо его не было (в силу необходимости постоянно уклоняться от операций правительственных войск), либо он не упоминался в отчетах, поскольку сразу забивался для обеспечения подразделений продовольствием. Поэтому в качестве трофеев фигурируют мулы и лошади, иногда в довольно больших количествах — до сотни животных [17, f. 43d]. Гвардейцы также изымали любые вещи, представлявшие ценность: котлы, жаровни (comales), слитки железа, свинец, оружие, мелкие ювелирные украшения [17, f. 56v, 132d]. Редкой удачей для подразделения было найти церковные драгоценности. Например, 3 мая 1848 г. при взятии поселения Мани́ ополченцы захватили два ящика с церковным серебром [31, f. s/n]. Однако по мере выдавливания повстанцев в юго-восточную сельву такие удачные трофеи попадались все реже.
Подводя итог, можно отметить, что юкатанское правительство попало в финансовую ловушку, попытавшись совместить такие практики модерна, как массовая призывная армия, и чрезвычайные военные налоги, уплата которых должна была считаться священным гражданским долгом «во имя человечества и цивилизации», с чрезвычайно высокими социальными расходами в виде высокого жалования военнослужащим и пенсионного и продовольственного обеспечения их семей. Экономика штата в 1847—1850 гг., и без того пострадавшая от гражданских войн 1839—1847 гг., просто рухнула. Наличность вымывалась необходимостью оплаты импорта, налогооблагаемая база сокращалась из-за эмиграции или мобилизации налогоплательщиков, качество хозяйственной деятельности очень сильно снизилось в результате наступления повстанцев зимой-весной 1848 г.
В условиях упадка экономики единственным действенным способом сбора налогов стало возвращение к традиционным испанским практи- кам — монополиям и косвенным налогам. Как было показано выше, введение алькабалы на мясные продукты в сельскохозяйственном штате довольно быстро начало приносить доход. С другой стороны, доля штата в таможенных доходах была очень невысокой и не могла стать эффективным источником финансирования государственных расходов. Лишь перенаправление федеральных таможенных доходов на создание и обеспечение дивизии Vega в 1851 г. и трехкратное сокращение численности личного состава (при соответствующем росте количества налогоплательщиков и положительном влиянии на хозяйственную жизнь), задействованного в подавлении восстания, позволило временно решить вопросы финансового обеспечения вооруженных сил. Впоследствии в этот процесс вмешаются уже общие мексиканские политические катаклизмы, но этот вопрос выходит за рамки темы данной статьи.
Библиография
- 1. Bragoni B. Guerreros virtuosos, soldados a sueldo. Móviles de reclutamiento militar durante el desarrollo de la guerra de independencia. Dimensión Antropológica. México, CDMX, 2005, vol.35, pp.95-137.
- 2. González Segovia A., Chirinos J.D. Haberes militares: pago por deudas de guerra en la independencia de Venezuela, siglo XIX. Boletín Americanista. Barcelona, 2022, N 85, pp.145-167.
- 3. Branda P. Did the war pay for the war? An assessment of Napoleon’s attempts to make his campaigns self-financing. Napoleonica. La Revue. Paris, 2008, N3, pp.2-15.
- 4. Bordo M.D., White E.N. A Tale of Two Currencies: British and French Finance During the Napoleonic Wars. The Journal of Economic History. Cambridge, 1991, vol. 51, N2, pp.300-316.
- 5. Hewitson M. Princes' Wars, Wars of the People, or Total War? Mass Armies and the Question of a Military Revolution in Germany, 1792–1815. War in History. Newbury Park CA, 2013, vol.20, N 4, pp.452-490.
- 6. Broers M. The Concept of 'Total War' in the Revolutionary–Napoleonic Period. War in History. Newbury Park CA, 2008, vol.15, N 3, pp.247-268.
- 7. Косиченко И.Н. Мексиканская армия в начальный период Войны Каст на Юкатане (1847–1854). Дисс. канд. ист. наук. М., 2019, 311 с. [Kosichenko I.N. Meksikanskaya armiya v nachal'ny period Voiny Kast na Yukatane (1847–1854)/ [Mexican army in initial period of the Caste War in Yucatan (1847–1854). Diss. Cand.Sci. Hist.]. Moscow, 311p.
- 8. Dumond D.E. The Machete and the Cross: Campesino Rebellion in Yucatan. Lincoln NE, University of Nebraska Press, 1997, 571p.
- 9. Reed N. The Caste War of Yucatan. Redwood City CA, Stanford University Press, 1964, 308 p.
- 10. Rugeley T. Rebellion Now and Forever: Mayas, Hispanics, and Caste War Violence in Yucatan, 1800-1880. Redwood City CA, Stanford University Press, 2009, 488p.
- 11. Baqueiro S. Ensayo histórico sobre las revoluciones de Yucatán desde el año de 1840 hasta 1864. Mérida, Heredia Argüelles, 1878, t.1. 636p.
- 12. Colección de leyes, decretos y órdenes o acuerdos de tendencia general, del poder legislativo del Estado libre y soberano de Yucatán. Mérida, Rafael Pedrera, 1851, t.3. 675p.
- 13. Colección de leyes, decretos y órdenes o acuerdos de tendencia general, del poder legislativo del Estado libre y soberano de Yucatán. Mérida, Rafael Pedrera, 1851, t.2, 530p.
- 14. Colección de leyes, decretos y órdenes y demás disposiciones de tendencia general, del poder legislativo del Estado libre y soberano de Yucatán. Mérida, El Eco del Comercio, 1882, t.1, 520 p.
- 15. Ley orgánica de la Guardia Nacional. México, Ignacio Cumplido, 1848, 20p.
- 16. Archivo General de la Nación. Caja 0718 (356 Sin Sección). 51043-11. Expediente 10.
- 17. Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional. Expediente IX/481.3/2914.
- 18. Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional. Expediente IX/481.3/3255
- 19. Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional. Expediente IX/481.3/3258
- 20. Archivo General del Estado de Yucatán. Poder ejecutivo, Tesorería general de Yucatán, Hacienda, Caja 131, vol.81, Expediente 22.
- 21. Archivo General del Estado de Yucatán. Poder ejecutivo, Secretaría de Guerra y Marina, Milicia, Caja 164, vol.114, Expediente 47.
- 22. Archivo General del Estado de Yucatán. Poder ejecutivo, Comandancia militar de Uman, Milicia, Caja 165, vol.115, Expediente 64.
- 23. Archivo General del Estado de Yucatán. Poder ejecutivo, Tesorería general de Yucatán, Hacienda, Caja 131, vol.81, Expediente 16.
- 24. Archivo General del Estado de Yucatán. Poder ejecutivo, Tesorería general de Yucatán, Hacienda, Caja 131, vol.81, Expediente 24.
- 25. Archivo General del Estado de Yucatán. Poder ejecutivo, Secretaría de Guerra y Marina, Milicia, Caja 164, vol.114, Expediente 35.
- 26. Boletín oficial del gobierno de Yucatán. 12.08.1848.
- 27. Boletín oficial del gobierno de Yucatán. 03.05.1849.
- 28. Boletín oficial del gobierno de Yucatán. 11.03.1850.
- 29. Archivo General del Estado de Yucatán. Poder ejecutivo, Tesorería general de Yucatán, Hacienda, Caja 132, vol.82, Expediente 11.
- 30. Archivo General del Estado de Yucatán. Poder ejecutivo, Tesorería general de Yucatán, Hacienda, Caja 132, vol.82, Expediente 42.
- 31. Archivo General del Estado de Yucatán. Poder ejecutivo, Secretaría de Guerra y Marina, Milicia, Caja 164, vol.114, Expediente 27.